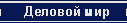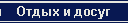|
|
Письма русского путешественника с американского Юга
Автор программы Александр Генис
Предыдущая часть
Как каждый пришелец из Старого Света, я часто задавал себе вопрос: где настоящая Америка, где ее родина, где она живет в неразбавленном такими же, как я, чужаками экстракте?
На Юге - подсказывала ответ американская литература, на Юге - в стране Марка Твена, Фолкнера, Фланери О'Kоннор. В каждой стране ядро там, где литература гуще, сказал я себе и отправился на юг.
Пока вы не пересекли линию Мэйсон-Диксон, границу штатов Пеннсильвании и Мэриленда, юг можно писать с маленькой буквы - это всего лишь сторона света, но за этой чертой вы оказываетесь на том Юге, где уместна только заглавная литера. Здесь уже все свое: еда - никакого хлеба, зато 160 сортов кукурузной муки, язык - без костей, одни гласные, флаг - старинное знамя южан с одиннадцатью звездами, по числу рабовладельческих штатов, объединившихся в конфедерацию во время гражданской войны.
Кстати - о ней: нью-йоркские номера машины сделали в одно мгновение то, чего не случилось за много лет эмиграции: я стал настоящим янки, о чем не забывал напомнить каждый водитель, недовольный моей нерасторопной ездой. Только ничего я от этого не выиграл: северян здесь не любят. Потомки конфедератов, как они любят говорить, «ничего не забыли и ничего не простили». Самая популярная надпись на бамперах: «Генерал Ли сдался, я - нет». Сперва можно подумать, что гражданская война еще не кончилась, но постепенно начинаешь привыкать к местной разновидности декоративного патриотизма, столь любимого Америкой.
Глубокий, а значит настоящий Юг, начинается не с какой-то определенной географической точки, а с накопления мелких наблюдений, которые подсказывают, что ты добрался до непривычной, чужой территории.
Например, исчезают обычные четвероногие стулья. Куда бы вы ни сели, пол под вами предательски качнется в сторону. Весь Юг - это страна кресел-качалок. Жизнь на качелях располагает к сладкому безделью. Раскачиваясь, невозможно толком ни читать, ни писать, ни считать деньги - только жевать табак да потягивать любимый нью-йоркскими алкашами за 45-градусную крепость ликер «Услада юга».
Тягучий южный ритм - взад-вперед, отделяет Америку Обломова от Америки Штольца. В прошлом Юг себя чувствует лучше, чем в будущем. Отсюда и природная консервативность южан, которая является не столько политической философией, сколько защитным рефлексом. Любые перемены, нарушающие ленивый южный статус-кво, угрожают естественному образу жизни.
Однако, вообще большая политика чужда Югу - новости тут бывают или местные, или никакие. Иностранцами считаются выходцы из соседних штатов, а туристам из Нью-Джерси вполне серьезно говорят: «Добро пожаловать в Америку». Во всем этом проявляется гордое ощущение самодостаточности. Юг - это полюс изоляционизма, откуда даже Белый Дом, не говоря уже о других континентах, кажется враждебным миражом.
Южане поставляют стране самый чистый тип «реднеков» - «красношеих». Это своеобразная порода американцев состоит из грузных, мускулистых, обильно татуированных мужчин, не выходящих из дома без вязанки пивных банок. Чаще всего они работают водителями трансконтинентальных грузовиков.
Эти настоящие американцы твердо знают свое место в мироздании и искренне презирают любое другое. Однажды я встретился с компанией реднеков в манхеттенском японском ресторане. Каким чудом они туда забрели, я не знаю, но сделали это напрасно, судя по тому оторопелому виду, с каким они глядели на сырую рыбу. «Что это?» - с ужасом спросил самый молодой. «Такое же дерьмо, как все остальное», - отвечал реднек с большим жизненным опытом.
Мотаясь по южным штатам, я не искал ничего специального. В том-то и трудность американских путешествий, что эта страна уже не чужая, но еще и не своя. Известно, что о любых местах проще писать, если провел там один день, а не много лет. Близкое знакомство только увеличивает пропасть, разделяющую людей и страны. Ведь часто и жену понять труднее, чем случайного прохожего.
В этом смысле Юг помогает туристу еще меньше, чем другие районы Америки. Он лишен оригинальности запада страны или уюта Новой Англии. Но зато у Юга есть то, чего нет нигде, - Фолкнер.
Во всех поездках я всегда ищу себе в проводники писателя. Если его нет, то страна так и остается немой. Но если он находится, то происходит чудесное слияние вымысла и реальности. Любого писателя лучше всего читать на его родине, что я и делал, возя с собой несколько томов Фолкнера.
Как ни странно, литература наполняется другим содержанием просто оттого, что читатель перемещается в соответствующие широты. Ожившая география из скучных, казалось бы, нужных только автору указаний, становится необходимым комментарием к тексту. Не важно, писатель ли отражает жизнь, или жизнь в глазах читателя подстраивается под книгу, существенно лишь то, что в месте пересечения литературы и реальности они сливаются в магическое единство, которое и остается в памяти уже навсегда.
Призрак фолкнеровского Юга явился мне не старинном теннессийском кладбище в долине Кэйп-Ков. В этих краях за могилами следят с особой любовью. Потомки нередко приезжают со всех концов страны, чтобы привести в порядок ветхие кладбищенские плиты.
Могилы на Кэйп-ковском кладбище расположены так, чтобы мертвецы лежали ногами к Востоку - в Судный день вставать будет проще.
Похоронено здесь человек двести, но фамилий на всех плитах только две - Оливер и Грегори. Эти двое патриархов - первые белые переселенцы Кэйп-Кова - пришли сюда в 1811 году, откупили землю у индейцев-чероки, построили фермы, основали свои кланы, переженившиеся потомки которых живут здесь до сих пор.
Фамильная сага, записанная на кладбищенских плитах, читалась, как романы Фолкнера. У каждого из бесчисленных Оливеров и Грегори была своя, какая-то очень американская судьба, в которой мне помог разобраться местный священник. Кого-то убили конфедераты, когда он защищал от мародеров корову. Другая повесилась, не простив мужу измены. Этот погиб в пьяной ссоре, возникшей по поводу выборов Теодора Рузвельта. А тот убит в перестрелке из-за контрабандного виски.
Всего шесть поколений назад на месте этого кладбища была девственная земля, на которой лишь изредка охотились индейцы. Все, что здесь случилось, произошло совсем недавно. Времена пионеров только что кончились, да и то не совсем.
В тех же краях я видел ярмарочные представления, где одетые в кожи ковбои демонстрировали искусство стрелять с двух рук без промаха, а патриот из местного драмкружка поэтически рассказывал зевакам историю освоения Дымчатых гор.
Мы воспринимаем Америку как данность. Для нас она существует вне времени - Америка вообще. Но тут, на теннессийском кладбище, я видел страну в ее исторической протяженности.
Однако, это была не та история, которую знает Старый Свет. Кардинальное отличие в том, что американская история - личная, а не государственная, народная, национальная.
В основе Нового Света лежит миф о пионере, первопроходце. Это не только голливудский штамп, но и глобальная мировоззренческая концепция. Пионер - поневоле одиночка. Оторвавшись от старых корней, он пускает новые там, куда приходит и где заключает союз не с людьми, а с землей, которую он завоевывает и возделывает.
Свобода от прошлого - это бегство из истории политической в историю фамильную. Американская история по-настоящему должна бы ограничиваться семейной сагой. Как раз такой, которую и писал Фолкнер.
Все его книги сплелись в один грандиозный эпос пионеров. И в этом он близок поэтике вестерна, единственном истинно национальном жанре американской культуры.
Интересно, что мы не считаем романы Фолкнера историческими, хотя он и выстраивал их по хронологии реальных событий. Они действительно не похожи на «Войну и мир», скорее - на Ветхий Завет или исландские саги. Дело в том, что земля Фолкнера еще так нова, что она помнит имена своих первых поселенцев. Вот так исландцы могут перечислить всех, как впервые вступил на остров.
У Фолкнера родословная заменяет историю. Прошлое прорастает в личности, а не в обществе. Происхождение - главная, определяющая черта каждого его персонажа. Они обречены нести в себе благодать или проклятие предков просто потому, что память о них еще слишком свежа. Свет еще Новый, он еще не успел растворить в безличном обществе индивидуальную судьбу каждого. И трагедию своей страны Фолкнер видел в том, что прогресс отрывает человека от мистического союза с почвой, на которой выросли могучие, преувеличенные герои его книг. Открывает, чтобы бросить в тот самый плавильный котел, в котором с таким успехом варимся все мы.
У Фолкнера не бывает мелких характеров. Все они - гении добра и зла, люди-гиперболы, как раз такие, каких мы привыкли встречать в голливудских вестернах. Эта героизация - следствие перенесения Фолкнером действия в мифическое, а не историческое время. Такую же операцию проделал со своей страной и писатель из другой Америки - Гарсия Маркес.
Фолкнер не придумал своих героев. А списал со своих предков, не так уж давно пришедших в эти края, чтобы стать патриархами нового мира. «Рослый человек, полный протестантских заповедей и виски» - такими не только были его южане, но такими они во многом остаются и сегодня: в упрямых и грубых реднеках можно узнать потомков фолкнеровских пионеров. И только здесь, на Юге, мне пришлось видеть книжные магазины, где продается одна книга - Библия.
Гражданская война лишила Юг отдельной политической истории. И тем облагодетельствовала его. Опять Фолкнер: «Ища объяснения живой южной литературе, следует обращаться к войне. Северяне выиграли войну, а единственный благородный поступок, который можно совершить на войне, - это проиграть ее».
В результате поражения Юг, а не Север, ощущает себя хранителем традиции, ядром Америки, ее духовным бастионом. Потому Юг и верен знамени конфедератов, что он не хочет меняться. Миф о пионере здесь по-прежнему жив.
Иногда с ним можно встретиться в самых неожиданных местах. Например, в музее самого знаменитого южанина в мире - Элвиса Пресли.
Элвис - личность, выросшая до гротескных размеров, - стал пророком религии успеха. Поэтому экспозиция этого невероятного музея больше похожа на собрание священных реликвий: перстень, костюм, рентгеновский снимок его грудной клетки. Вот так в Стамбуле хранят волос из бороды Магомета. Кажется, и сам Элвис верил в волшебную власть над фортуной. Приближенным он дарил свои вещи, как амулеты - галстуки, пижамы, трусы. В листке из его блокнота я заметил небрежные каракули - кресты, могендовиды, полумесяцы. Похоже, он присматривался к атрибутам других религий.
И все же главное в Элвисе, в его несусветной славе - происхождение. Когда он, увешанный золотом кумир, выходил на сцену, каждый восхищенный зритель, помнил, что Элвис - один из них - «реднек» из соседней деревушки, которого судьба буквально вознесла над миром. Элвиса называли королем, но это был монарх, короновавший себя сам, - Наполеон по-американски.
В этом странном культе прослеживается та же истовая вера в провидение, которая гнала героев Фолкнера в дикие края, а еще раньше вела отцов-основателей в Америку. Жесткая и жестокая вера в человека, живущего по своим правилам, без оглядки на Старый Свет.
Вся Америка - страна людей, искавших убежища от истории. Но на Юге, где время идет медленнее, чем на Севере, легче погрузиться в безмятежный поток вечности, омывавший этот континент всего пятьсот лет назад.
* Как это обычно бывает в Америке, о лучших достопримечательностях Юга позаботилась природа. Одна из них - Дымчатые горы, громадный национальный парк раскинувшийся на границе Северной Каролины и штата Тенесси. Здесь расположена самая высокая вершина восточного побережья США, взбираясь на которую вы можете познакомиться с дружелюбными черными медведями.
* Самое экзотическое зрелище на Юге - родео. Его устраивают по выходным за околицей каждого городка. Прелесть этой малопонятной северянам забавы - в обилии ритуалов: особый родео-клоун, пародирующий высокое искусство обуздания бычков, горячо сопереживающие зрители, одетые без различия пола и возраста в синие джинсы, ну и конечно, главные герои - ковбои, с из замечательной развинченной походкой, которую во времена «Великолепной семерки» усердно вырабатывал у себя каждый советский школьник.
* Лучшая еда на юге - «барбекью», жареные на гриле свиные ребра с острым соусом, рецепт которого свирепо берегут от посторонних. На Юге - это не обед, а трапеза, за которой участники обновляют скрепляющие всех американских южан узы.
Письма русского путешественника из Германии
Автор программы Александр Генис
Предыдущая часть
Елку у нас в Риге, когда я был маленьким, всегда украшали немецкими игрушками. Их делают из невесомого стекла и присыпают крошкой, похожей на сахарную пудру. Лесная избушка, один-два шарика, сосулька - и елка приобретает торжественный и новогодний облик. Все остальное - уже излишество.
В немецких игрушках, как в сушеных грибах, дух германского уюта содержится в исключительно концентрированном виде.
И вот мне довелось побывать в крохотном городке Роттенбург-на-Тауберге, откуда Германия рассылает по всему миру экстракты своей сказочной романтики. Даже в разгар лета в Роттенбурге идет бойкая торговля рождественским товаром - стеклянными звездами, восковыми свечами, и конечно, щелкунчиками. Каждый, из 12 тысяч жителей этого городка мог бы, как Урфин Джус, обзавестись армией сосновых солдат-щелкунчиков. А сопровождали бы это воинство стаи деревянных кукушек из знаменитых шварцвальдских ходиков.
Игрушечное королевство Роттенбурга прекрасно представлял блестящий от лака, молодцеватый щелкунчик с немного грустной мордочкой. В нем счастливо сочеталась воинственная челюсть с безобидными функциями, простодушный крестьянский юмор с аристократическим изяществом мундира. Воспетый Гофманом и Чайковским, щелкунчик - связующее звено традиционно русского Нового года и патриархального немецкого рождества.
Самые счастливые среди городов - посредственные. Есть в Европе такие уголки, которые никогда не знали столичного шума. Никто не стремился превратить их в Третий Рим, Северные Афины или Восточную Венецию. Их никто толком не завоевывал, никто особенно и не защищал. До них вообще никому не было дела. И это прозябание обернулось великим благом, потому что посредственности дали развиваться по своему желанию. А главное желание посредственности - не развиваться. Так на теле Германии образовалось чудо - Роттенбург-на-Таубере. Город, который остался таким, каким его построили много веков назад.
Понятно, что может быть прекрасен собор, дворец, крепость. Но в наше время они красивы сами по себе. В век, когда стиль утерян, только его огрызки - правда, величественные - могут донести идею общего. Но Роттенбург - город, которому время не помешало сохранить стиль целиком. Здесь нет великих соборов готики, дворцов Ренессанса, церквей барокко. Здесь - только стиль. Фазверковые домики с узкими фасадами, церковь с изрядной колокольней, крепостная стена - у кого же тогда не было крепостной стены, да рыночная площадь с деловитым фонтаном. Вот и все. Скромный городок, построенный так, чтобы здесь было вкусно жить и не страшно умереть.
В Роттенбурге нет геометрии. Зато есть черепица, которая не бывает одинаковой - после обжига она всегда разных оттенков, и стареет она по-разному - зеленеет, покрывается мхом или плесенью. Такая крыша прихотлива, как луг или лес, и повинуется одному Богу.
И еще - скат черепичной крыши должен быть сделан под острым углом, чтобы дождевая вода легко сливалась. И никогда не найти двух крыш, одинаково островерхих. Поэтому, если смотреть сверху - с колокольни, ратуши или крепостной стены - то море крыш сливается в картину, полную контрастных теней, полутонов, ярких пятен. Пейзаж опять-таки прихотливый и причудливый, то есть, говоря по-немецки, - романтический.
Не менее роттенбургской черепицы прекрасны бурые с прозеленью старинные кирпичи.
У моих любимых "малых голландцев" есть полотна, на которых тщательно выписанная кирпичная кладка занимает половину картины. Наверное, и они видели в феномене кирпича счастливую гармонию геометрии с анархией, порядка со стихией.
Гармония эта исключительно подходит к бюргерской душе. Она умеренна и постоянна, даже нетленна, потому что несет в себе здоровое мещанское начало. Поэтому и шедевр, в котором она удачнее всего воплотилась, тоже бюргерский. Это - купеческий склад, рыночный амбар. Простое сооружение, исчерпывающееся черепичной крышей и кирпичными стенами. Чистота идеи соблюдена благодаря функциональной необходимости. В таком виде амбары пережили века, приобретая с ними замечательную замшелость, чудную паутину старости, которую японцы называют печальным очарованием вещей.
Если бы Феллини снимал фильм о Германии, он мог бы начать с панорамы мужской уборной. Такой, какой может похвалиться знаменитаа мюнхенская пивная "Хофброй". Издалека шеренга писсуаров похожа на клавиатуру гигантского рояля. И обобщенный немец своей бодрой струей заставляет журчать инструмент в ритме марша.
Ярко горит свет в германской пивной. Люди сидят широко, развалясь. Сюда ведь не забегают на пять минут. Да и одолеть литровую кружку надо умеючи - просунуть большой палец в ручку, а всей ладонью обнять стеклянного мастодонта, как любимую и законно принадлежащую тебе женщину.
Любо смотреть, как лихо с этим справляются и спортивные студенты, и плечистые матроны, и их крепкие дети.
Но по-настоящему пиво пьют только завсегдатаи. Для них - буролицых, седовласых, в болотного цвета штанишках и шляпах с пером - есть свои орудия производства: именные кружки, хранящиеся в специальных гардеробах с замочками и номерками. Эти люди уже прошли все круги рая и выбрали свой собственный здесь, в "Хофброй", где чувство локтя, где картофельные кнедлики, где музыканты, уложив арбузные животы на колени, извлекают из аккордеонов польки, похожие на марши, вальсы, неотличимые от маршей, и марши сами по себе.
Эта бодрящая атмосфера так захватывает, что иностранцы, отважившиеся посетить мюнхенскую достопримечательность, вливаются в праздник, сами того не замечая. Вот уже притоптывает американская старушка в буклях, и африканец хлопает себя по ляжкам в баварском стиле, и японцы повели блевать приятеля, не справившегося с германскими масштабами. Да и сам я, поддавшись порыву, поддержал веселье бодрым "ур-ра!".
Все вздрогнуло за нашим дубовым столом. Болотный сторожил дружелюбно принял заслуженную кружку и членораздельно произнес: "Ста-лин-град".
... Да, это не Америка. Тут некому объяснять, что медведи редко заходят на Красную площадь.
Немцы на Руси представляли Европу. "Славяне" - это те, у кого есть слово, кто умеет говорить. "Немцы" - немые. Без языка, иностранцы.
И все равно мы похожи. Потому и воевать немца можно, что свой человек. И выпить. И подраться. И в лицах у них что-то неправильное - то нос, то уши, то некоторая скособоченность.
В чудном мюнхенском музее "Альте пинакотек" висят десятки старинных немецких полотен, а их прототипы и сегодня пьют пиво в "Хофброй".
Итальянская живопись отпочковалась от фрески. Немцы же шли путем книжного червя - от миниатюры, иллюстрации, сюжета. У них все мелкое, тщательное, скрупулезное. Еще современники поражались выписанным по одному волоскам на "Автопортрете" Дюрера. И в этом характер прекрасной немецкой музы, которая не парит, а бредет.
Дюрер пишет оскорбленную Лукрецию, но, несмотря на порыв сочувствия, не забывает изобразить ночной горшок у нее под кроватью. В этой замечательной будничности - та же поэзия, что и в черепичном раю Роттенбурга.
У германского - в отличие от итальянского - художника нет ничего особо красивого. Он все-таки бюргер. Но дело свое знает. Если на полотне отсечение головы, то из шеи будет хлестать три струи крови - столько, сколько положено. Им лучше знать.
Эта деловитая жестокость пронизывает всю северную живопись. На алтарном триптихе Гольбейна злодеи стреляют в святого Себастьяна сантиметров с десяти - чтобы не промахнуться. И относятся они к делу спокойно, без экзальтации. Особенно тот, который перезаряжает арбалет, по-детски держа стрелу зубами. И земляника на переднем плане. Сочная! Ей-то что.
У каждого народа - свой звездный час. Момент, когда его культура собирается в наиболее выпуклый и завершенный образец. У нас таким, наверное, так и останется Пушкин. У немцев - романтики. И вовсе не потому, что лучше их не было. Просто тогда, в начале 19 века, к книгах немецких романтиков собрались в фокус лучи капризного и неповоротливого германского гения. Чтобы решить центральный вопрос немецкого духа - конфликт поэта и бюргера.
Чуть ли не все германские писатели служили чиновниками. От Виланда ло Шиллера. От Гете до Кафки. От письмоводителя до премьер-министра. Германия, кажется, единственная страна, где свободный художник постоянно отсиживал присутственные часы.
Между прочим, служили они хорошо, и начальство было ими довольно. Гофман, например, считался знающим и исполнительным юристом. Кафка руководил департаментом и слыл специалистом по социальному страхованию.
Все они ненавидели свое хлебное место и все были вынуждены за него держаться. Классический конфликт парящего в облаках Сокола с ползающим в потемках Ужом для немцев решался в самой непосредственной жизненной ситуации. Поэта загнали в контору и предоставили ему там бунтовать в не опасных для общества формах.
Тут-то немцы и изобрели иронию.
В самом деле, что делать художнику в роли письмоводителя? Смеяться. Точнее, ухмыляться не обидным для начальства образом.
Сперва ирония требовала от художника слишком серьезно относиться к жизни: поэт и писарь в одном лице! Затем - не придавать слишком большого значения своему творчеству: писарь и поэт! А уж потом находить что-то значительное в создавшемся положении.
Немецкий писатель вынужден был менять обличия со сказочной быстротой - не зря они так любили сказки. Ирония же, как кулисы, прикрывала лихорадочное переодевание.
Потом кулисы исчезли и остался Гофман. Который создал из самой комедии масок самостоятельный и самодостаточный мир. То волшебник, то архивариус, взад-вперед и всегда понарошку.
Крестный отец немецкой иронии Фридрих Шлегель прекрасно понимал, какую перспективную штуку он выдумал: "В иронии все дложно быть шуткой и все всерьез, все простодушно откровенным и все глубоко притворным. Нужно считать хорошим знаком, что гармонические пошляки не знают, как отнестись к этому постоянному самопародированию, когда нужно то верить, то не верить, покамест у них не начинается головокружение".
Менялись эпохи, забывались страсти классических героев, но оставалась ирония, помогающая каждому поколению решать конфликты поэта и толпы, художника и чиновника, труда и праздности, высокого и низкого, поэзии и прозы.
Ладно, там, поэты. Кто в наши дни говорит стихами? Но ирония давала рецепты неуязвимости и в повседневной жизни, защищая человека от "звериной серьезности". Почему неуязвим Швейк, "богемский отпрыск немецких романтиков"? Потому что он и сам не знает, когда придуривается, когда нет.
От скольких бед нас спасает ирония, и как тяжела судьба людей, прямо взирающих на вещи.
Ирония помогла немцам найти спасительный компромисс между жизнью и идеалом. Более того, она сделала этот компромисс веселым и симпатичным. Благодаря ей романтики по-прежнему воевали с буднями за сказку - но не очень, то есть, находили и в буднях кое-что приятное. В результате германские писатели научились писать одновременно и сатиру на филистеров и идиллию об этих самых филистерах. Причем, так писать, что далеко не всегда просто отличить одно от другого.
Поэтому в немецкой литературе есть сказки, где действуют юристы, делопроизводители, таможенники. Прежде всего, германские романтики были немцами. Поэтому они и не могли игнорировать свое великое одухотворенное мещанство. Они никогда не забывали о той самой роттенбургской черепице.
Немецкая ирония остроумно приспособила мещанство в дело создания несерьезного отношения к миру. И вот Германия, сквозь войны и фашизм, сумела протащить этот милый компромисс в свою странную литературу, в свои игрушечные города, а главное - в германский дух, связанный все-таки не с Гитлером, а с гофмановским щелкунчиком. С той вечной рождественской атмосферой, о которой так приятно вспоминать в слякоть.
Трезвый дух бюргерской страны с насмешливой поэтичностью учит нас не только наслаждаться мещанским уютом, но и так воспарять в высшие сферы, чтобы не замечать "где начинается небо, и где кончается ирония".
* В Роттенбурге есть пугающий экзотичностью, единственный в мире музей пыточных инструментов - четыре этажа, наполненных виртуозными и хитроумными изобретениями. В простодушном средневековье вместо теории и практики сыска строили универсальную систему наказания, что проще. Многие пыточные орудия красивы и все выполнены с непонятным в этой ситуации изяществом. Зачем "испанскому сапогу" серебряная насечка? Чье эстетическое чувство она должна удовлетворять - палача или жертвы?
* Германия - страна лесов, как наша, скажем, Вологодщина, с той разницей, что для русского крестьянина лесная чаща была вековым врагом, а для немца - другом. Германия родилась в лесах, им поклонялась, ими оберегала свою свободу: римляне именно из-за непроходимости германской чащобы оставили в покое местные племена. Немцы и сегодня наслаждаются лесом. Они собирают грибы, охотятся и просто бродят по сосновым борам. Лес здесь не превратился в парк, он даже остался источником пищи. Правда, дорогой и изысканной. Именно поэтому в немецком ресторане вы можете заказать оленину с можжевельником и - в правильный сезон - получить на гарнир жареные лисички.
Письма русского путешественника из Японии
Автор программы Александр Генис
Предыдущая часть
Для описания Японии лучше подходит монотонное в своей пестроте перечисление. Причем, начинать можно, откуда угодно. Например, с гостиничной тумбочки, где лежит не Библия, а "Учение Будды". Квинтэссенция этой отдельной версии буддизма изложена на странице 452: "Каждый, кто хочет достичь нирваны, должен следовать четырем правилам: не убивать, не пить спиртного, не играть в кости, не ложиться спать поздно".
Не так просто, как кажется. Одна моя знакомая так и не смогла решить вопрос, могут ли вегетарианцы носить шубу.
Еще не покидая отеля, включим телевизор, чтобы увидеть, как на экране роскошного "Сони" японских бизнесменов обучают пользоваться ножом и вилкой. Несчастные заметно страдали: котлета никак не цеплялась за зубцы вилки и они помогали себе черенком ножа.
По другому каналу шло веселое шоу. Комики высмеивали западные унитазы. Трудно представить, что такой прозаический предмет способен доставить столько развлечений. Но дело в том, что собственно японский туалет в своем идеале приближается к солдатской выгребной яме, устроенной в строгом соответствии с передовой гигиенической наукой.
Зато по третьему каналу 24 часа в сутки показывают виды на Фудзияму.
Японские интонации так чужды европейскому слуху, что когда в аэропорту таможенник дико закричал на меня "Хай", я подумал, что он тут же и зарубит меня по самурайскому обычаю. Но оказалось, что "Хай" по-японски значит "да". Как будет "нет", я до сих пор не знаю, так как никто этого слова не употребляет. Я спросил у портье дорогу на рыбный рынок. Он объяснил. А через час блужданий выяснилось, что рынок по понедельникам закрыт. Я думаю, что портье не решился снабдить меня отрицательной информацией. Но, может быть, он подумал, что иностранцам нравиться любоваться запертыми воротами.
Все японские таксисты работают в белых перчатках. То ли из уважения к новеньким машинам, то ли из вежливости к клиентам. Дом таксиста узнаешь издалека - возле него стоит деревце, на котором сушатся свежевыстиранные перчатки.
На японской улице не переходят дорогу на красный свет. Есть ли машины, нет ли их, - никого не волнует. Пожилые женщины кланяются до земли полицейским. Курящие японцы носят с собой крохотные пепельницы, чтобы не сорить на тротуар. На стенах часто висит изображение свастики - знак плодородия.
Нигде и никогда в Японии не дают чаевых, что быстро меняет поведение иностранца. В ресторане, вместо того, чтобы подозвать официанта щелканьем пальцев, непроизвольно кланяешься, чуть не падая со стула.
Чрезвычайно удачно характеризует японцев выбранный ими национальный напиток - сакэ, который совсем не обязательно пить горячим. Потребляют его в больших количествах, осушая миниатюрные чашечки с такой быстротой, что уже через час за столом появляются вдрызг пьяные. Японцы считают, что храбрый человек не боится напиться. Однако сакэ выветривается так же быстро, как и пьянит. Еще полчаса - и все опять пристойно. Это, конечно, сильно отличается от отечественного застолья, про которое давно известно: с утра выпил, целый день свободен.
Сколько, по-вашему, стоит чай? В Японии 25 долларов за 10 граммов, чуть меньше двух чайных ложек. Рису за такие деньги можно купить на неделю. Кстати, чашка этого чая ценой в телевизор может - если очень старая - стоить и как автомобиль.
В Японии нарушается иерархия цен. Дорого не полезное, а красивое. Эстетика из необязательного довеска к будничному существованию превращается здесь в социально-экономический рычаг. Японцы обставляют жизнь красотой, как мы комфортом.
Красота - главное, а часто единственное требование японцев. С удивительной легкостью они переносят нужду и неудобства. Еще недавно в половине японских домов не было канализации. Но никогда японцы не обходились без прекрасного.
При этом любовь к красоте - отнюдь не привилегия элиты. Перед каждым деревенским домом - садик, мудрено составленный из двух-трех камней и лужайки мха в две ладони. В городском сквере я видел обтрепанных пьяниц, пивших дешевую картофельную водку из изящных фарфоровых чашек. Горничная, убиравшая мою комнату в гостинице, так искусно составила натюрморт из лежащих на столе апельсинов, что я их так и не съел.
Прикиньте, какого размера должен быть грузовик, перевозящий ваш скарб на дачу. А в жизни японца было всего лишь полсотни вещей, но зато уж - совершенные шедевры. В японской спальне нет кровати, но ваза, в которой стоит сухая ветка и два цветка - по сезону - обходится в месячную зарплату. Картина на весь дом одна, но она передается по наследству пять поколений. Кимоно можно носить, а можно повесить в музее. Самая красивая вещь в антикварном магазине не продается - она принадлежит хозяину.
Известная всем японцам легенда рассказывает о двух вечно соперничающих между собой садовниках. Один вырастил сад, в котором росли все цветы страны. Другой победил соперника, вырубив в своем саду все растения, кроме одного стебелька повилики.
Западного туриста до оцепенения ошарашивает знаменитый императорский дворец в Киото. Он пуст, как квартира перед ремонтом. Но гиды не устают восхищаться: посмотрите какие замечательные полы - чистые, некрашеные, деревянные.
Еще тысячу лет назад японцы поняли, что прекрасное связано не с приобретением вещей, а с избавлением от них. С тех пор японцы усердно избавляются: в стихах - от рифмы, в живописи - от красок, в интерьере - от мебели, в приготовлении пищи - от приготовления пищи.
Так в Японии родилась великая культура со знаком минус, культура, которая стремиться к голому нулю, как к недостижимому, но притягательному идеалу, культура, которая в совершенстве освоила изощренное искусство вычитания.
Образец такого искусства - дзен буддистские сады - лучшие образцы которых скрывают монастыри самого, может быть, красивого в мире города - Киото.
Конструктивный принцип такого сада - изъятие из природы всего лишнего, отчего остаток естественным образом сгущается.
Минимализм повышает удельный вес детали, придавая ей статус акмеистского символа.
Дзенский сад - натюрморт из наиболее обобщенных свойств натуры. Сад - это искусство сгущения реальности, которое достигается самоограничением.
Главный прием сада - шоры.
Шоры сужают кругозор, делают прямую линию зрения ломаной. Для этого в саду ставят ширмы и экраны, делающие зрение проблематичным. Препятствия, затрудняя восприятие, выводят наши чувства за пределы автоматизма.
Экраны вводят в сад не только темноту, но и тишину, ибо они дирижируют и зрением, и слухом. Текущая вода ручейка переполняет бамбуковую трубу, и она опрокидывается с глухим звуком. Резкий удар как бы описывает тишину - и выявляет ее хрупкость, первозданность, а главное - естественность, которую сам же бамбуковый фонтан и нарушает.
Другая ширма - низкая стена, ограждающая дзенский сад. Она прекрасна своей незаметностью и неизбежностью. Стена говорит нам: "Здесь Родос, здесь прыгай!". Другого "Родоса" нет, как нет и другого шанса. "Родос" - это здесь и сейчас. К решению коана, которым является всякий дзенский сад, можно придти либо здесь, либо негде.
Ограничивая поле зрения, стена лишает нас надежды перенести заданный садом вопрос в другие координаты: конец сада, как конец света.
Стену дзенского сада обмазывают сваренной в масле глиной. Проступающий сквозь штукатурку жир образует узор столь же непредсказуемый, как и тот, что появляется при обжиге чайной посуды.
Контролируемая случайность - любимый прием искусства вычитания. Провоцируемая импровизация изымает рациональный расчет и сознательный умысел из поведения.
На Востоке, возможно, это - эстетизация смирения перед природой, которая в Японии учит человека с большей жестокостью, чем где бы то ни было.
Дзенские сады начались с подражания китайской живописи: это - пейзаж в трех измерениях, скульптура, или архитектура природы.
Но можно сравнить такой сад и с игрушечной географией Диснейленда: камни, как горы, а гравий, как река (мостик намекает, что не море). Однако масштаб дзенского сада трактует подобие иронически: кусты, представляющие в нем деревья, одного роста с заменяющими горы камнями.
Этим сад демонстрирует, что он не копия природы. Оно не выдает себя за нее - это была бы "природа для бедных". Сад - физическая и метафизическая карта природы.
Сад - это Другой природы.
Сад - это ее инобытие.
Не столько трехмерность, сколько временность отличает сад от породившей его живописи. Картина всего лишь нетленна, сад же в определенном смысле вечен.
Живое долговечнее мертвого. От времени Христа остались только восемь олив в Гефсиманском саду. Эти скрученные, как выжатое белье, деревья - последние свидетели того, что произошло две тысячи лет назад в Иерусалиме.
Сад - урок бессмертности времени. Он может стареть и возобновляться, то есть меняться, не исчезая.
Составляющие сад камни и растения не сопоставимы с нами: первые живут слишком долго, вторые слишком коротко - от сезона к сезону.
Есть еще бабочки-однодневки, прилетающие навестить родственников.
В сухих, состоящих только из песка и камней садах Киото представлены два состояния камня - твердое и сыпучее. Второе - будущее первого: песок - загробная жизнь камня.
В сухих садах изъятие необязательного приводит к выпариванию воды - остается одна соль. Но каждый дождь заново ее растворяет. Камни темнеют от смочившей их влаги. Она вновь пробуждает их плодородие, и сквозь камень прорастает его природная чернота.
Люди для камня что дождь. Поколения для него, как ливни или солнечные затмения. Для камня нет различия в частоте этих явлений. Но и это всего лишь долговечность.
Вечного нет ничего.
Даже небытие не вечно, если оно способно стать бытием, как это однажды уже случилось.
Если буддизм исповедывает этическую безусловность (человек может и должен быть счастлив независимо ни от чего), то порожденный буддизмом сад исповедует ту же безусловность эстетически.
Дзенский сад может приняться повсюду. Его можно возвести где попало, и означать он может, что угодно. Это - даже не искусство, а угол зрения. Такой сад модно носить с собой как очки. Глядя сквозь них на окружающее, можно всегда выделить себе из него невидимый другим сад.
Вернувшись из Японии, я завел свой сад камней - полуметровую фанерную коробку с песком, маленькие грабли и девять камешков неправильной формы. Как мне пришлось убедиться на собственном опыте, совладать с игрушечным садом ничуть не проще, чем с настоящим.
Началось все с того, что подчиняясь первому импульсу, я устроил у себя на столе миниатюрный Стоунхендж: установил в центре самый большой камень и выложил вокруг него щербатую колоннаду. Тут же и выяснилось, что сад камней исключает симметрию.
Окружность не вписывается в прямоугольную ограду, а упраздняет ее. Две правильные фигуры не могут сосуществовать в одном пространстве. Они убивают друг друга. Сад теряет объем. Это - уже не овеществленный символ, не скульптура мира, а декоративная аллегория, флаг малоизвестной африканской державы.
Решив не навязывать природе свою идею порядка, я во всем доверился случаю. Теперь я не глядя швырял камни, как игральные кости, надеясь, что удача уложит их многозначительным узором. Зарывшиеся в песок камешки напоминали то речную отмель, то морской пляж, но чаще - просто пустырь. Получающиеся пейзажи весьма искусно передавали скучную неприхотливость природы, но никаким "высшим значением" тут и не пахло. Сад не получался. Его реальность не сгущалась, и даже не разрежалась, а оставалась сама собой - сырой и серой.
Бросившись в другую крайность, я решил сад приукрасить. Насыпал в коробку розового песка, а камни заменил пестрой галькой и кусками кораллов. Оглядев получившееся, я понял, что такой сад камней мог быть разве что у Элвиса Прэсли.
Тогда обложившись книгами, я стал подражать прославленным образцам. Поделив камни на "гостей" и "хозяев", я выстраивал их отношения по правилам конфуцианской и буддистской образности. На песке появлялись то священные острова Амиды, то волны Западного океана, то плывущая тигрица с тигрятами.
Все бы ничего, но к следующему утру я забывал, что именно соорудил накануне, так что мне приходилось строить сад заново. Наверное, у меня не хватало ни терпения, ни самоуверенности, чтобы дать себе время сжиться с настольным ландшафтом.
Отказавшись от книжной науки, я отдался интуиции. Теперь я выкладывал камни так, как им - а не мне - того хотелось. Подолгу вертя каждый из них в руке, я пытался развить в пальцах тактильный слух. Мне чудилось, что одному камню удобнее лежать, другому стоять, третьему прислоняться к четвертому, а пятому просто быть в стороне он остальных. Заботясь об удобстве моих камней, я и думать забыл о саде.
Не знаю, чем бы это кончилось, если бы в нашем доме не поселился котенок. Обнаружив коробку с песком, он приспособил ее для своих нужд, чем и завершил мою борьбу с садовым искусством Японии.
* Самое экзотическое зрелище в Японии - отправляющиеся не работу гейши в киотском районе Гион. Гейши, которых на всю Японию осталось с полсотни - очень дорогое украшение мужской жизни. Только то, что на ней надето, стоит 10 тысяч долларов.
* В дорогих ресторанах Японии больше всего ценится несъедобный антураж - посуда, каллиграфия, икебана. Сами блюда до смешного маленькие - одна креветка, четыре грибка, листик хрена. В местах попроще замечательно вкусна дешевая простая лапша в горячем бульоне. Впрочем, иногда простота обманчива. Однажды на завтрак мне принесли мелкую серебристую вермишель. Только съев полтарелки я заметил, что она с глазами. Оказалось - маленькие рыбки.
* Самая важная достопримечательность Японии связана не с местом, а со временем. Цветение сакуры в апрельском Киото - наверное, лучшее, что может пережить путешественник. Во всяком случае, на этой планете.
Письма русского путешественника из Новой Англии
Автор программы Александр Генис
Предыдущая часть
Слово "Америка" во всем мире порождает совершенно ложные образы, заимствованные из научно-фантастических романов времен индустриального энтузиазма. Лучше всего от этого заблуждения лечит поездка в северо-восточный угол Америки. Свойственный этому краю домашний уют в законченном, идеальном, законсервированном виде в Новую Англию привезли пилигримы из старой. С тех пор она не очень-то менялась. Стоит съехать с хайвея (большака) на маленькую дорогу, как вы окунетесь в скучноватый рай сельской жизни. Уют и должен быть вот таким - основательным, неспешным, изобилующим старинными вещами и традициями, в том числе - что объясняет мою личную привязанность - и традициями литературными.
Новая Англия так богата книжными реминисценциями, что любая поездка сюда превращается в паломничество. Видимо, здешняя почва благотворна не только для кленов и вязов, но и для литературы. Ведь и наши писатели, перебравшиеся в Америку, обосновались не в Техасе: Солженицын и Саша Соколов жили в Вермонте. У Бродского был дом в Массачусетсе, у Лосева в Нью-Хэмпшире, у Алешковского - в Коннектикуте.
Наверное, дело в том, что Новая Англия - тамбур, что-то вроде предисловия к настоящей Америке. На Востоке Новый Свет уже достаточно старый, чтобы культура успела пустить корни. Не зря новое - кинематографическое - искусство расцвело на Западном берегу, в Голливуде, а старое писательское ремесло еще жмется поближе к Европе.
Новую Англию составляют шесть штатов: ученый Массачусетс, идиллический Вермонт, глухой Нью-Хэмпшир, дорогой Коннектикут, крохотный Род-Айленд и охотничий Мэйн. Они отличаются друг от друга ровно настолько, чтобы поверхностное разнообразие элегантно подчеркивало то внутреннее сходство, которое определяется общим происхождением. Три экскурсии по Новой Англии познакомят нас с тремя обличиями - историческим, столичным и сельским. Сперва мы отправимся туда, где все это начиналось.
20 ноября 1620 года у северной оконечности мыса, который будет потом назван Кэйп-Код, в заливе, возле которого впоследствии вырастет город Провинстаун, пассажиры корабля "Мэйфлауэр" впервые вступили на землю континента, который уже назывался Америкой.
Колонисты были очарованы этим, самым знаменитым в истории Америки мысом. Их можно понять - после долгого и опасного пути через океан, они обрадовались бы любой твердой суше, даже такой бесплодной песчаной косе, которой по совести говоря, является Тресковый мыс - Кэйп-Код. Все, что они нашли на этом первом клочке Нового Света, были громадные дюны, суровое море, туманы, которые в жаркие дни здесь заменяют тень, и жалкую растительность, прозванную "травой бедных", потому, что она растет даже там, где не выживает любая другая флора.
Но все зависит от точки зрения: неплодородный песчаный берег оказался превосходным пляжем, бурное море пригодилось для того, чтобы кататься на досках в волнах прилива, а знаменитые дюны Кэйп-Кода стали неисчерпаемым источником романтических переживаний и излюбленным местом прогулок.
Сегодня все северная часть Кэйп-Кода - а это километров пятьдесят побережья - заповедная пустыня с одним оазисом в виде Провинстаун. Городок этот, заселенный экстравагантной смесью, составленной из рыбаков, художников, писателей, артистов и сторонников однополой любви обоего пола, пожалуй, один из самых причудливых и обаятельных во всей Америке.
По сути, это всего-навсего рыбацкая деревушка с кривыми улочками - по ним, если и ездят, то лишь на велосипедах. Провинстаун - это маленькие, посеревшие от ветра дома, окна которых всегда выходят на море, скромные ресторанчики, меню которых определяет сегодняшний улов, а главное изобилие песка, норовящего превратить город в одну из тех дюн, которыми славен Кейп-Код. Генри Торо, знавший и любивший эти места, писал, что как-то здесь оставили неплотно закрытыми двери школы - после летних каникул оказалось, что здание забито песком до самой крыши.
Именно потому, что Провинстаун был забытой богом деревушкой, он стал элегантной, утонченной до декаданса артистической колонией, где отшельники от искусства отстроили себе роскошную башню из слоновой кости, впрочем, точнее все же из песка, моря и относительного одиночества. Не зря именно в Провинстауне в начале нашего века родился настоящий американский театр - здесь, в старом амбаре шли первые пьесы великого Юджина О.Нила.
Даже туристский бум, сделавший Провинстаун модным летним курортом, не смог стереть с облика этого городка изысканный богемный флер, который, в частности, выражается в соотношении книжных магазинов с "Мак Доналдсами": первых тут полдюжины, вторых - нет вовсе.
Всякий раз, возвращаясь с Кейп-Кода, я ощущаю искреннюю благодарность к пилигримам с "Мэйфлауера" - за то, что они там не остались: благодаря этому благоразумному решению, провинстаунский пейзаж сохранился в первозданном виде до сегодняшнего дня.
Неофициальной, но и бесспорной столицей Новой Англии является, конечно, Бостон, который к тому же считается в Соединенных Штатах городом самым интеллигентным. "И единственным" - обычно скромно поправляют сами бостонцы.
Обросший лучшими университетами страны, начиненный музеями, концертными залами и библиотеками, Бостон по праву претендует на звание "американских Афин" - за что местных жителей все остальные считают снобами.
Это, кажется, единственный порок, с которым гордые бостонцы готовы мириться. Их интеллектуальное высокомерие отражается даже во внешнем облике: здесь носят одежду академического, так называемого "оксфордского" стиля. Говорят бостонцы с аристократическим выговором, пропуская половину согласных. Взглядов придерживаются исключительно либеральных, нравов - старомодных, обычаев - европейских. Всем видам транспорта бостонцы предпочитают бег трусцой. Многие из них уверены, что дикий Дальний Запад начинается как раз за городской чертой.
В тени интеллектуальной славы Бостон пестует свое прошлое, обеспечившее городу его нынешний статус. Действительно, именно здесь все начиналось - первая почта, первый банк, первая газета, не говоря уже о революции. Бостон - родина половины американских писателей, один из которых назвал свой родной город "центром солнечной системы".
Когда вы все это выслушаете от коренного бостонца, а ни один из них не упустит случая, хорошо ему напомнить, чтобы он не зазнавался, как в этой колыбели свободы некогда сожгли четырех ведьм и повесили четырех квакеров.
Несмотря на все исторические реминисценции, которых тут не меньше, чем в Европе, Бостон - город с дерзкой современной архитектурой. Но при этом здесь сумели сохранить центр неприкосновенности. Более того, гуляя по даунтауну, вы не можете отделаться от впечатления, что в новоанглийской деревушке 17 века каким-то чудом выросли небоскребы.
Многоэтажные стеклянные громады всего лишь застенчиво отражают изящные старинные церкви. По средневековым узким переулками можно гулять, но не ездить - что, конечно, редкость в Америке.
Для удобства туристов широкая красная полоса, нанесенная прямо на булыжную мостовую, ведет вас через всю старинную часть города. Это так называемая "дорога свободы" - наглядная энциклопедия американской истории. Пройдя положенные два километра и осмотрев 16 памятных сооружений, вы сможете сдать любой экзамен.
Впрочем, мне, как и большинству туристов, особенно по душе тот памятник, которым начинается и кончается "дорога свободы", - Квинси-маркет. Это старинный рынок, расположенный в самом центре, в двух шагах от гавани. Когда-то здесь было сердце города, славного своей торговлей. Потом появились супермаркеты - рынок закрылся, обветшал, пришел в упадок.
От окончательного разрушения Квинси-маркет спас двухсотлетний юбилей революции. К празднествам отцы города отреставрировали старинные аркады, населили их торговцами разной снедью, и теперь здесь вновь стал городской центр - с праздными толпами, бродячими актерами и музыкантами, фестивальным духом и, конечно же, знаменитыми бостонскими устрицами.
Так бостонцы не только спасли архитектурный исторический памятник, но и вернули городу живую связь с прошлым. Рынок ведь всегда был средоточием городской жизни, ее квинтэссенцией. Не зря Сократ вел свои диалоги не в Акрополе, а на афинском рынке - агоре. Бостон, считающий себя, как я уже говорил, Афинами Нового Света, не мог смириться с потерей базара, который так уместно дополняет Гарвардский университет и Массачусетскую технологическую школу.
Когда американцы рассказывают иностранцам о Вермонте, они закатывают глаза и размахивают руками, показывая собеседнику, что не жить в Вермонте - горе, а не побывать там - преступление.
Вермонт действительно не похож на остальную Америку. Когда-то, в 18 веке, вермонтцы даже создали свое независимое, суверенное государство, но в конце концов все же вошли в союз на правах четырнадцатого штата. Но непохожесть осталась, только определить, в чем она заключается, не так просто.
Пересякая границу штата Зеленых Холмов, такое прозвище носит Вермонт, вы видите именно зеленые холмы. Они следуют друг за другом в таком странном порядке, что на каждый из них нужно взобраться с самого низу, потом спуститься, потом опять забраться - и так до самой Канады. Каждая гора здесь сама по себе, со своим подножием, перевалом и названием. И каждая растет от уровня моря до невысокой вершины. Вот так рисуют горы дети, выросшие в степях - аккуратные загогулины на линии горизонта.
Вермонтские холмы тщательно, без проплешин заполнены лесом. И лес этот в основном березовый. Берез здесь столько, что они могли бы излечить ностальгию всех трех волн русской эмиграции.
Немногие места, незанятые горами, залиты озерами. Местное предание считает их бездонными. И в самом деле, озера Новой Англии страшно глубоки и очень чисты. Когда-то воду из них даже экспортировали. Зимой выпиливали из озер ледяные глыбы и перевозили на кораблях, скажем, в жаркую Калькутту. Там из новоанглийских айсбергов делали ледяные кубики для англичан, изобретших коктейли раньше холодильников.
Горами и озерами вермонтская дикая природа исчерпывается. Здесь нет ничего сверхъестественного - ни Ниагарского водопада, ни Гранд каньона. Особенность Вермонта в другом - в соразмерности, в гармоничности, в благородной сдержанности.
Вермонт - это всеамериканское захолустье, заповедник сельской тишины. Наверное, каждой стране нужна идеальная провинция. Такое место, где всем становиться ясно, как далеко мы ушли по пути прогресса и как много потеряли по дороге. Жить здесь понравиться далеко не всем. Но этого и не нужно. Достаточно, что где-то существуют вермонтские городки, которые просто не могут обойтись без уменьшительного суффикса. Ослепительно белая церковь, меленький, но с солидными колоннами банк, лавка, в ассортименте которой на первом месте - наживка для рыбной ловли. Еще железная дорога и местные девушки, с завистью провожающие монреальские поезда. Есть в Вермонте что-то от меланхолической чеховской провинции, но без чеховской же горечи.
Натуральность вермонтского образа жизни - продукт сознательного выбора и мудрого управления. Вермонт - один из самых маленьких (около полумиллиона жителей) и самых бедных штатов в Америке. Нет здесь большой промышленности, крупных городов, небоскребов. Закон запрещает даже устанавливать рекламные щиты на дорогах.
Но это не значит, что Вермонт - заповедник нетронутой природы, каких в Америке великое множество. Напротив, вермонтская земля несет на себе следы человеческой деятельности. Только деятельность эта - облагораживающая.
В Вермонте я впервые понял, как красив сельскохозяйственный пейзаж. Не бесконечные поля - от горизонта до горизонта, а маленькие уютные фермы с знаменитыми красными амбарами, не менее знаменитыми крытыми деревянными мостами, мельницами, коровами, лошадьми.
Вряд ли местные аграрии вносят весомый вклад в сельскохозяйственное могущество Америки. Сельская жизнь в Вермонте имеет скорее декоративный характер. Вот так горожанин, который уже забывает, что молоко берется из коров, а не из пакетов, представляет себе идеальную, как на картинке, ферму.
Мы привыкли к тому, что охранять следует памятники архитектуры или чудеса природы. Однако в Вермонте предметом охраны служит нечто другое, более эфемерное - эстетика сельской жизни. На открытке, которую я послал из Вермонта в Нью-Йорк, изображен трактор на фоне зеленого луга.
Новая Англия - витрина Америки. Здесь по крупицам воссоздан, а впрочем, скорее сохранен, национальный идеал, умеренный, как климат средних широт и правильный, как круговорот природы.
Новая Англия - музей домашнего уюта, огромный национальный очаг, греться к которому приезжают со всей страны.
Где бы ни жил американец, в Новой Англии он всегда дома.
Эти "Письма" не заменят путеводителя. И все же три моих совета - что особенного посмотреть, чем интереснее всего пообедать и где важнее всего побывать - завершат этот, как и все остальные очерки нашего путевого цикла.
* Экзотику Новой Англии лучше всего представляет живой музей-аттракцион в городе Мистик, штат Коннектикут. Этот поселок состоит из любовно восстановленного прошлого: лавочки, церкви, школы, тюрьмы, питейные дома, верфи, конторы. Здесь пекут хлеб по рецептам с "Мэйфлауер", говорят на елизаветинском английском, распускают слухи о конфедератах, а президента Рузвельта фамильярно зовут Тэдди. Самое дорогое в здешних домах - гвозди (металл!), газеты тут выходят раз в год, моды не меняются никогда. В этом заповеднике ученый персонал с женами, детьми и домочадцами ведут щепетильно воскрешенную жизнь, устраивая зевакам парад старинных ремесел, демонстрацию допотопных обычаев, выставку отживших нравов. В сущности, это - огороженное забором пространство викторианских будней. Банальность, какая-нибудь сработанная доктором наук бочка, возводится в музейное достоинство. При этом теряет всякий смысл драгоценное для музея различие оригинала с копией: выставляется ведь не экспонат, а процесс - не ЧТО, а КАК.
* Что касается гастрономии, то тут не может быть двух мнений: лучший не только в Новой Англии, но и во всей Америке обед - мэйнский омар, сваренный в той же холодной морской воде, в которой его поймали.
* Моя любимая достопримечательность Новой Англии связана с литературой. 4 июля 1845 года 28-летний безработный с гарвардским образованием Генри Торо решил на практике осуществить свою мечту: избавиться от Адамова проклятия - "в поте лица добывать хлеб свой". В его замечательной книге "Уолден" подробно рассказано, как он построил себе лесную хижину и как наслаждался жизнью в ней, как легко он обходился без всего, что казалось необходимым его соседям, и как мало нуждался в труде для оправдания своего созерцательного существования.
Теперь на родину Торо в маленький массачусетский городок Конкорд приезжают тысячи любителей изящной словесности, чтобы совершить паломничество к озеру Уолден.
Уолден - единственный в своем роде литературный мемориал. Думаю, такого памятника нет ни одному писателю.
Ведь Уолден - это просто пруд, небольшое, чистое и глубокое озеро, расположенное в двух километрах от Конкорда.
Памятником это место стало потому, что озеро сохранилось в нетронутом виде. Сам Торо предсказывал Уолдену другую судьбу. Он считал, что потомки вырубят леса и застроят берега виллами.
Но именно потому, что он это написал, именно потому, что он воспел красоту озера, потомки спасли Уолден от прогресса. Даже хижина самого Торо не оскверняет девственную природу озера - она разрушена после того, как завершилось одно из самых увлекательных приключений в американской истории - "робинзонада" Генри Торо.
Правда, неподалеку стоит точная реплика этого легендарного сооружения, так что каждый может убедиться, насколько скромен и доступен, в отличие от других, идеал Генри Торо. А над крыльцом этой хижины прибита доска, с вырезанной на ней цитатой из "Уолдена": "Я ушел в лес потому, что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил".
Письма русского путешественника с курорта
Автор программы Александр Генис
Предыдущая часть
Искушение курортом довольно долго мне удавалось преодолевать без особых усилий. Пляжный досуг, сладкое приморское безделье, служило объектом высокомерного презрения в том кругу, где я провел лучшие годы за портвейном и разговорами о прекрасном. Обычная для наших соотечественников смесь саркастического романтизма и циничного идеализма всегда толкала меня на поиски приключений интеллектуального свойства.
Но с годами я обнаружил, что все чаще ищу в путешествиях не новых впечатлений, а новых состояний. То ли это путь к эзотерическому самоуглублению, то ли примитивная лень, но потихоньку я стал обменивать целомудренные объятия муз, на более грубые плотские радости: капризы духа на усладу тела.
Поэтому, когда жена вынудила меня провести очередной отпуск на мексиканском курорте, сопротивлялся я больше для виду - чтобы капитуляция перед буржуазными развлечениями не слишком контрастировала с тем интеллектуальным образом, который выходец из России носит как погоны.
Так я оказался в Канкуне, курортной столице Мексики, в одном из тех тропических оазисов, где солнце, море и абсолютная беззаботность гарантируются твердой американской валютой. Все такие местечки неотличимы друг от друга. Рекламируя себя как "противоядие от цивилизации", они честно дают то, что обещают: возвращают человека к максимально упрощенному состоянию, сдирая с клиента вместе с одеждой те наносные оболочки, которые мы зовем культурой.
Социологи считают, что курортному бизнесу принадлежит будущее. Но уже и сейчас орды туристов осаждают тропики, стремясь сбросить с себя бремя интеллекта. Этот процесс связан с тем простым обстоятельством, что в современном мире люди работают головой, а не руками. Прогресс, освободивший человечество от физических усилий, привел к тому, что за возможность испытывать эти самые физические усилия мы теперь платим кучу денег и едем черти куда.
Во всяком случае, никогда мне не приходилось так тяжко, в поту своего лица, оправдывать досуг, как на канкунском курорте. Конечно, этот труд можно назвать развлечением, но количество затраченной энергии от этого не изменится.
Если в обычной жизни мне не приходится держать в руках ничего тяжелее карандаша, то здесь с раннего утра до позднего вечера я истязал свое тело физическими упражнениями. И поверьте, что вытащить тридцатифунтовую рыбу куда тяжелее, чем до утра обсуждать сравнительные достоинства Петрарки и Пугачевой.
Телесные радости плохо поддаются переводу. Эмоции, вызываемые живописью или архитектурой, легко передать на бумаге, а вот про баню писать можно одними междометиями.
Кстати, почти то же самое происходит с любовью. Ей посвящены миллионы прекрасных страниц, а сексу всего несколько удачных строчек. Культура легко справляется только с описанием, ею же порожденными. До тех пор, пока художник парит в высших сферах, он изображает тончайшие оттенки чувства. Но как только он спускается на землю, обращаясь к биологической основе личности, ему никак не удается протиснуться между Сциллой и Харибдой - ханжеским молчанием и вульгарным натурализмом.
Душа у нас разговорчивая, а тело - немое, но это еще не значит, что ему нечего сказать. Просто мы, не зная языка мускулов и гормонов, торопимся побыстрее перейти на более простые, то есть духовные материи. Когда же автору все же удается найти способ рассказать о телесном, получаются такие шедевры, как "Старик и море" или "Темные аллеи".
Естественно, что отчетливее всего голос тела слышен в спорте. Человек на футбольном поле, волейбольной площадке, или теннисном корте немедленно теряет свою общественную значимость, возвращаясь к пещерным - немым - ценностям: сила, воля, ловкость, быстрота реакции. Спортивное состязание - кратчайший путь к свободе от социального или интеллектуального неравенства.
Те 15 минут, которые я, после двадцатилетнего перерыва, потратил на занятие спортом в Канкуне, заставили меня по-новому взглянуть на западное общество. Для американцев спорт служит не столько физической разрядкой, сколько способом самоутверждения. Это всегда честная борьба - без гандикапа, обеспеченного деньгами, образованием, властью. На стадионе или в бассейне не бывает ни богатых, ни знаменитых. Нет здесь и равенства, только равноправие - все начинают гонку в одно время. Поэтому в любой команде немедленно создается социальная структура со своей сложной иерархией, непохожей на ту, что складывается в обычной жизни. Конечно, две эти сферы - телесная и духовная - каким-то образом взаимодействуют между собой. Поэтому, скажем, американский президент подчеркивает свои спортивные достижения с той же регулярностью, с которой он замалчивает интеллектуальные увлечения. В здоровом теле - здоровый дух, но не наоборот.
Спорт (не для болельщиков, а для участников) - арена биологического соперничества. Личность здесь обнажена, оторвана от обычных социальных связей, от условностей цивилизации. Наверное, подобная ситуация возникает в окопе. Не зря спорт и война состоят в двоюродном родстве.
В спорте американцы явно предпочитают персональную конкуренцию командной. В привычных нам физкультурных пирамидах, которые я бы назвал самым ярким проявлением советского спорта, человек превращается в кирпичик: он - необходимый элемент конструкции, которая без него просто развалится, но, в то же время, легко заменяем. Не личная доблесть, а дисциплина, не индивидуальное отличие, а функциональная необходимость.
А вот на теннисном корте, например, игрок становится временным, но полновластным хозяином своего, четко огороженного сеткой участка, которой он и защищает со всей свирепостью собственника. Каждый теннисный поединок - миниатюрная война за землю, как основу личной независимости. Решившись продолжать эту теннисную тему, можно даже сказать, что прологом к нынешним чехословацким событиям наравне с "пражской весной" можно считать и победы Ленделла и Навратиловой.
Все эти сомнительные наблюдения мне пришлось делать со стороны. Так уж вышло, что в стране, казалось бы, боготворившей спорт, меня учили только тем видам, которые с трудом применимы на Западе - лыжный кросс по пересеченной местности, подтягивание на канате и бег в мешках.
Правда, в Канкуне мне удалось взять небольшой реванш за даром потраченные годы, научившись управлять парусной яхтой - оказалось, что это единственное спортивное упражнение, которое можно и нужно выполнять лежа.
Когда-то курорт задумывался с размахом - он позволял человеку вступать в натурофильский диалог с первоэлементами: Воздухом, Огнем, Землей и Водой, чаще всего - минеральной. Но в Европе курорт давно выродился в салон, сезонное продолжение гостиной. Тут он так густо оброс светскими традициями, что голос природы заглушили сплетни - тени романов, литературных и настоящих, витают над курортами, придавая им пикантную романтическую жеманность.
Поддавшись обаянию этой престижной забавы, Америка вывезла к себе курорт с тем же бережливым пиететом, с каким она всегда обращалась с ценным европейским экспортом, вроде средневековых замков. Как часто бывает с колониями, светские ритуалы здесь соблюдаются с большей ревностью, чем в метрополии. Даже если на соседнем пляже дамы загорают без лифчиков, курортников не пускают к ужину без пиджаков.
Редеющие, как целомудрие, американские курорты настолько консервативны, что по ним лучше всего судить о прошлом. Гипсовые нимфы у шипучих источников, величавые ампирные купальни, элегантный завтрак на бегах, казино, закрытое поколением ригористов, кружевные зонтики, онегинская скамья в якобы заброшенном парке, а на постоялом дворе - портреты президентов вперемежку с монархами - современниками: Георг, Наполеон, Александр Павлович.
Всю эту постороннюю Америке роскошь убил, как и все европейское в этой стране, транспорт - на этот раз самолет, превративший сезон в проблему не календаря, а денег. Раньше на курорт ездили летом, теперь - в отпуск.
Впрочем, старинному курорту все равно в Америке не выжить - он здесь мало кому нужен. Европейская знать ездила на воды, чтобы освежить, не снимая перчаток, связь с природой. Американцы, по преимуществу обитатели пригородов, и так живут круглый год на даче.
Поэтому сегодня собственно американский курорт - это причудливый сплав природы с культурой. Лучше всего его представляет флоридский "Диснейуорлд".
Дерзок замысел "Диснейуорлда". Как Петербург, он вырос на болотах. Он - продукт воли человека, который решил построить в одном, отдельно взятом штате земной рай, создать на пустом месте идеальный мир без страха и упрека.
Диснейуорлд - целен и самодостаточен. Единственное, в чем он нуждается, так это в туристах. Кроме них от большого мира ему ничего не нужно. У него все свое - своя география, своя история, свое прошлое, свое будущее и свое настоящее.
Флоридский рай - наивен и заманчив, простодушен и увлекателен. Но главное - "Диснейуорлд" работает на благо нации. Здесь производится самый ценный продукт Америки - оптимизм.
Изучение Диснейуорлда, как и любой страны, следует начинать с географии. На берегу живописной лагуны выстроились разные страны - Канада, Марокко, Франция, Китай и дюжина других (остро ощущается отсутствие России). Тут вам представляется возможность совершить кругосветное путешествие не за 80 дней, а за 80 минут.
Каждая страна представлена аутентичной архитектурой, товаром, едой. Если это Франция, то, конечно, вы найдете Эйфелеву башню. Если Мексика, то официанты носят сомбреро. Если Япония, то границу будут охранять бронзовые самураи. Короче, не спутаешь.
Флоридский глобус несравненно лучше настоящего. Обойдя вокруг света, вы не разочаруетесь в человечестве. Все здесь чистое, ухоженное и радостное. Тут не бывает нищих, больных, голодных. Флоридская заграница - облегченный, как бы адаптированный для пятикласников мир.
Так диснеевская география дает первый урок американского патриотизма. Она наглядно показывает: все, что попадает в Новый Свет, немедленно становится лучше. В первую очередь - Старый Свет.
Естественно, что центром диснеевской географии являются Соединенные Штаты.
От других стран-аттракционов диснеевская Америка отличается тем, что не позволяет себе экзотических деталей. Тут на нескольких гектарах представлена чисто ностальгическая мечта. Смотреть здесь в принципе не на что - типичная провинциальная Майн-стрит, улица, фонарь, аптека, плюс пожарная охрана. Но все это застыло в том идеальном времени, когда не только улицы, но и нравы были чисты.
Со временем у "Диснейуорлда" такие же сложные отношения, как с пространством. В сущности, он обходится только прошлым и будущем. Настоящему места нет. Утопия может существовать либо в Золотом веке, который уже был, либо в том, который еще будет. Поэтому из пасторальной Америки, застывшей где-то между изобретением подтяжек и присоединением Техаса, вы попадаете прямо в ослепительный 21 век.
Научно-фантастический ЭПКОТ-центр с его головоломной попавшей на все открытки архитектурой, это - торжественный гимн прогрессу. Ведущие американские компании вкладывают огромные деньги в аттракционы, обещающие перенести вас в мир будущего при помощи продукции этих фирм. Но на самом деле здесь рекламируются не конкретные изделия, а сам технический прогресс, который и есть путь к счастью.
Все аттракционы построены по одному принципу. Вас сажают в вагончик, в котором вы совершаете недолгое путешествие по страницам человеческой цивилизации. Куклы-автоматы выплывают из темноты и разыгрывают сценки, из которых явствует, что когда-то не было колеса, а потом его изобрели. Затем к колесу приделали моторчик, потом крылья, наконец появляются ракеты, которые привозят вас в светлый храм будущего. Здесь роботы уже наряжены в скафандры. Они живут на космических станциях и в подводных городах. Их окружают компьютеры и лазеры. Невооруженным глазом заметно, что по мере приближения к 21 веку куклы становятся все веселей. Если изобретатель колеса угрюм и задумчив, то пластмассовый человечек в прозрачном скафандре приплясывает от счастья. Каждый может убедиться, что как ни прекрасно американское сегодня, завтрашний день будет еще лучше. Вообще-то, моему поколению, выросшему на романах Беляева и Ефремова, хорошо знакомы эти веселые и слегка аляповатые краски грядущего.
В трактовке ЭКПОТ-центра прогресс нагляден, прямолинеен и утилитарен. Он является прямым результатом сложения. Чем больше изобретений, тем лучше наша жизнь. Об этом рассказывают и даже поют автоматические куклы, демонстрируя, насколько лучше стал человек с тех пор, как появился электрический утюг.
В основе Диснейуорлда лежит сказка. Если в ЭПКОТ-центре она облечена в наукообразную, "жюль-верновскую" форму, то в главном флоридском парке, "Волшебном королевстве" - сказка живет в чистом виде, разве что слегка приправлена приключенческим романом. Пираты, феи, гномы, приведения, дикари - весь положенный набор представлен тут теми же куклами-автоматами. Особенно поражает воображение "Заколдованный замок" где сотворенные из воздуха при помощи голографии призраки убедят любого скептика в существовании некротических явлений.
Как и вся Америка, Диснеевская сказка выросла из европейских корней. Но есть у нее и своя специфика, которая не бросается в глаза, когда вы смотрите гениальные фильмы самого Уолта Диснея, но заметна в "волшебном королевстве" Диснейуорлда.
Американская сказка, в отличие от своего прототипа, более поучительна, более бесконфликтна, в ней нет той тайной грусти, которая придает обаяние Андерсену. Сказка Диснейуорлда показывает, как быть богатым и здоровым. Сказка Андерсена всегда помнит, что между ней и жизнью лежит пропасть. Этого типично андерсеновского конфликта между поэзией и прозой Диснейуорлд лишен напрочь. Здесь всех убеждают: вы рождены, чтоб сказку сделать былью. И делают это с тем же пылом, что когда-то и в России, но, надо признать, с гораздо большими основаниями.
Эти Письма не заменят путеводителя. И все же три моих совета - что особенного посмотреть, чем интереснее поообедать и где важнее всего побывать - завершат этот, как и все остальные очерки нашего путевого цикла.
* Самое интересное во Флориде - космический центр имени Кеннеди, расположенный неподалеку от Диснейуорлда, на мысе Канаверал.
Вряд ли место для космодрома выбирали, исходя из этого соседства, но совпадение потрясающее. Центр Кеннеди как бы завершает флоридский туристский набор. Более того, если вспомнить опять Жюля Верна, а в диснеевских краях без него не обойтись, то окажется, что знаменитая пушка, благодаря которой его герои попали на Луну, была установлена как раз там, где сейчас запускают настоящие ракеты. Так тезис о сказке и были находит подтверждение в самой что ни на есть настоящей жизни.
* самая интересная еда во Флориде - аллигаторы. Их тут несусетное количество. Поэтому в ресторанах наравне с гамбургерами продают жареные хвосты земноводных. На вкус, правда, аллигатор мало чем отличается от курицы.
* Самая экзотическая достопримечательность американского курорта, как всегда связана с природой. Благодаря роскошному климату, во Флориду перебираются на зимовку не только старушки, но и перелетные птицы. Флорида рай и для людей и для зверей. Лучшее тому подтверждение - очередной развлекательно-познавательный парк "Мир моря".
Если начиненный пластмассовыми роботами ЭПКОТ-центр проповедует гармонию человека с цивилизацией, то "Мир моря" задуман как апофеоз межвидовой любви. Это не зоопарк, не аквариум, не цирк, это - райские кущи, где вы можете покормить огромных скатов, поиграть с тюленями и похлопать дельфина по могучей резиновой спине. Вот так должно быть жил Адам до тех пор, пока ему не приспичило познать добро и зло.
Продолжение
Первый город на земле, как сказано в Библии, построил злодей Каин. Добрый Авель ничего такого не делал. Для миллионов пригородных американцев на городе до сих пор лежит каинова печать, и снимать ее, похоже, никто не собирается.
Американцы добровольно поменяли сложную, непредсказуемую городскую жизнь на комфорт пригорода.
И все же, среди несметных поклонников Авеля попадаются в Америке и сторонники Каина. Один из них сказал: «Я лучше буду фонарным столбом в Нью-Йорке, чем мэром в Чикаго».
От полусельского однообразия американскую цивилизацию спасает ее уникальное исключение - единственный в США настоящий город - Нью-Йорк. Как Рим - Римской империи, Нью-Йорк необходим Америке. Тут не работают аналогии ни со Старым Светом, ни с историей. Нью-Йорк - новый для человечества феномен. Он пришел к нам из будущего, а не из прошлого. Поэтому он чужд и Европе, и Америке. Он существует сам по себе в историческом и географическом вакууме.
Лучше всего Нью-Йорк поддается негативным определениям. Он, например, не столица.
Столицы существуют для того, чтобы выражать сущность страны. Их имена заменяют собой названия государств. Столица - центр, который в идеале распространяется вплоть до границы. Как тот же Рим, который срастил понятие столицы с понятием империи.
Но в Америке нет центра. Здесь жизнь равномерно растеклась по стране и не собирается стекаться обратно. Да и куда обратно? Ведь не в Вашингтон же, этот странный для Нового Света античный слепок. Американцы устроили себе столицу, тогда как европейцы устраивали свои государства вокруг столицы.
При этом Нью-Йорк - несомненно главный город Америки. Главный, но не столичный. Это остров, а не центр страны. Остров - и в буквальном, и в переносном смысле слова. Манхэттан прилепился к континенту с самого краешка, заранее заявляя этим о своей инакости.
Нью-Йорк - частный город. В нем нет даже главной площади, такой, как Красная в Москве или Тяньаньмэнь в Пекине. Площадь - орудие государственного строительства. Здесь собирается народ, чтобы ощутить свою сплоченность. Во времена фашизма и в Италии и в Германии архитекторы выкраивали из старинных городов огромные плацы для парадов и шествий.
В Нью-Йорке просто нет места для таких церемоний. Разве что Центральный парк, но если там и собираются сотни тысяч ньюйоркцев, то чтобы посмотреть шекспировские пьесы или послушать Паваротти.
В самом деле, какое серьезное политическое мероприятие можно провести среди холмов и деревьев Сентрал-парка?
Меня до сих пор не перестает поражать дерзость, с которой Нью-Йорк решился на эту подмену. Вместо того чтобы обзавестись как все порядочной площадью, он соорудил гигантскую дыру в городской застройке. Уже адрес Сентрал-парка был выбран с гениальной предусмотрительностью. Когда в середине 19 века автор парка Фредерик Олмстед наметил первые контуры своего знаменитого произведения, между 50-ми и сотыми улицами лежали пустоши, за которыми начинались дачные участки Севера. В те времена тоску по более ли менее дикой природе большинство горожан могли удовлетворить, выйдя на крыльцо.
Однако уже тогда у ньюйоркцев хватило ума вложить капитал, искусство и усердие в будущее своего города и создать первый в Америке городской парк.
Сентрал-парк был задуман и исполнен так удачно, что он до сих пор остался уникальным и неповторимым. Прямоугольник длиной в полсотни кварталов привольно раскинулся посреди тесного, перенаселенного острова, занимая, наверное, самую дорогую в мире землю. В этой щедрости есть особый изыск богатства. Вот так в роскошных отелях оставляют незастроенной всю центральную часть: пустота в тридцать этажей, до самой крыши. Там, где умеют считать деньги, умеют их тратить с шиком.
Сентрал-парк - оазис равенства. Вокруг - дома богачей и знаменитостей: одни швейцары и роллс-ройсы. Ни у одного миллионера не хватит денег купить столько нью-йоркского простора, сколько есть у последнего бедняка, владеющего всем Центральным парком.
Чтобы убедиться в том, что Манхэттен - часть суши, окруженная водой, надо вернуться к водному транспорту. Когда едешь по Нью-Йорку на машине, можно запросто заехать не то, что в другой район - в другой штат. Про метро я уже не говорю - под землей все равно.
Только с палубы - даже, если это палуба речного трамвайчика - можно разобраться в нашем географическом положении: то есть убедиться, что манхэттенцы - островитяне. А это уже серьезно.
Остров интереснее материка. На континенте суша уходит в бесконечность, на острове она всегда кончается пляжем.
Отгороженные от большой земли, острова предполагают большую самостоятельность и, так сказать, сюжетную завершенность.
От того-то здесь сильнее ощущается вкус к приключениям, чем и пользовались классики авантюрного жанра: «Таинственный остров» Жюля Верна, «Остров сокровищ» Стивенсона, «Остров доктора Моро» Уэллса.
К тому же, острова - идеальное место для социальных экспериментов. Начиная с Атлантиды Платона, почти все утопии размещались на островах. К этой традиции имеет прямое отношение и концепция «одной, отдельно взятой страны». Тем более, когда эта самая страна оказалась в «кольце врагов», заменивших водные просторы.
Манхэттен разделяет с другими островами все преимущества и недостатки своего положения.
Карта Манхэттена пестрит чудесами, как те самые роскошные схемы, которые прикладывались к старинным приключенческим романам - Гринвич-вилледж, Сохо, Уолл-Стрит, Гарлем, Сентрал -парк...
Все это есть только здесь, только на этом острове. В биологии такая уникальность называется эндемикой: бескрылая птица киви, тасманский волк, бульдог, харакири. Для того, чтобы такие феномены природы и общества возникли и сохранились, нужны как раз островные условия.
Вот и в Манхэттене множество эндемичных явлений: от Эмпайр стейт билдинг до газовых рожков времен сестры Керри, от статуи Свободы - манхэттенского форпоста в океане - до лесистых северных парков, от загадочного имени, которое никто не может толком расшифровать, до манхэттенского уюта, смешанного с экзотикой в причудливой, но верной пропорции. Но главное здесь - чувство превосходства: в плохом и хорошем, в великом и смешном, в благодетели и пороках.
Манхэттен - остров приключений, в том числе и смертельно опасных. Но те, кто делят свою робинзонаду с полутора миллионами манхэттенцев, верят, что все кончится хорошо. Ведь авантюрный жанр знает только счастливый финал: неизбежный хэппи-энд.
В Нью-Йорке, как в старину, улицы олицетворяют определенные ремесла. Так, 47-я стрит - Бриллиантовая улица. Здесь сосредоточены ювелирные магазины. Уолл-стрит - улица менял, они же банкиры. Мэдисон авеню - рекламные агентства. Мотт-стрит - китайские рестораны. Малберри - итальянские кафе. Баури оккупировали бездомные. 42-я была отдана на откуп пороку.
В этом списке Бродвей, конечно же, ассоциируется с театрами. Но это только для неопытных приезжих, которые в своей родной Оклахоме мечтают о бродвейских мюзиклах. Сами ньюйоркцы знают, что Бродвею удалось вывернуться из-под ярма узкой специализации, чтобы растянуться в самую длинную улицу города: от Атлантического океана чуть ли не до Канады.
Бродвей - гениальная диагональ. В геометрической сетке стрит и авеню он один прихотлив и капризен. Бродвей вобрал в себя разнообразие Нью-Йорка. Только тот, кто пройдет по нему 20 манхэттенских километров, может считать, что действительно познакомился с городом.
Такое путешествие - лучший урок нью-йоркской географии и истории. От самых древних, помнящих еще голландских первопоселенцев кварталов даунтауна, Бродвей ведет прохожего сквозь буйные артистические кварталы Сохо и Гринвич-Вилледжа. Где-то на уровне 20-х улиц вы попадаете в экзотическое царство индийских магазинов, где торгуют шелками и пряностями. Бродвей пересекает район мод, бастион нью-йоркских фасонов. С 42-й он берет себе пышный псевдоним - «Великий белый путь». Тут, в гуще театров и варьете, Бродвей прославил себя электрической вакханалией рекламы.
Ну, а потом Бродвей становится бульваром, чтобы пересечь спокойные респектабельные районы. Тут путешественник встречается с двумя достопримечательностями, равно близкими нью-йоркскому сердцу: оперным театром Линкольн-центр и самым богатым в мире гастрономом - «Забар»
На уровне сотых стрит Бродвей становится интеллектуалом - здесь, в окрестностях Колумбийского университета расположены бесконечные книжные развалы.
А потом идет Гарлем, которые одни называют негритянским гетто, а другие - черной столицей Америки.
На 155-й Бродвей ненадолго выныривает из сомнительного окружения, чтобы привезти туриста в Американскую академию изящных искусств, среди членов которой мы можем найти Евтушенко.
По мере продвижения к Северу Бродвей теряет всякие эпитеты, превращаясь в заурядную, тихую, неширокую улицу. Так он незаметно и заканчивает свое манхэттенское существование возле пня того дерева, под сенью которого голландский негоциант Питер Минуит купил у индейцев самый известный в мире остров Манхэттен. Кстати, историки теперь говорят, что индейцы надули белого купца, продав ему чужой товар - вроде бы, сами они попали сюда случайно.
Но к Бродвею это уже не имеет отношения. Хотя и эта древняя история не случайна - такой фарс подходит к нраву улицы. Такой уж характер у Бродвея - хитрый и тщеславный, изворотливый и саркастический. Поэтому не стоит доверять его ложному смирению: в каком бы районе Манхэттена вы не вступили на эту улицу, вы ощутите под ногами общую вибрацию Нью-Йорка. Что и не удивительно - ведь это главный нерв нашего города.
Американцы не любят городов. И их можно понять. Для многих американцев город - опасное, нездоровое место, да пожалуй, и ненужное. Поэтому в Америке и нет городов в европейском смысле. Какой-нибудь Мэйплвуд или Спрингфилд - всего лишь почтовый адрес. Это место, где живут люди, где все устроено для удобства, но не более того. В этом самом Спрингфилде можно найти покой, душевное равновесие, особую поэзию, даже буколическую романтику. Но тут только города. Город - штучный товар. Он невозможен без индивидуальности. Город возникает только тогда, когда он создает неповторимую атмосферу. Город как живое существо, он ограничен, всеобъемлющ, непредсказуем. Его черты нельзя перечислить, его нельзя свести к формуле. Нельзя свести город к достопримечательностям. Эйфелева башня - еще не Париж. Любой настоящий город - исключителен, уникален.
Такой город в Америке один - Нью-Йорк. Только он и поддерживает динамическое равновесие между городской и пригородной культурой. Нью-Йорк можно любить и ненавидеть, его можно презирать, бояться, воспевать. Но никому еще не удавалось его игнорировать .
Тайна Нью-Йорка очевидна и неуловима. Исходив его улицы, написав о Нью-Йорке сотни страниц, я так и не понял собственного отношения к этому городу, который уже давно называю своим.
С самого начала Нью-Йорк возник без претензии на историческое величие. Он рос естественным путем, без градостроительного плана, как бы дичком. Его небоскребы торчат в прихотливом, и потому естественном порядке. Издалека Манхэттен возникает, как фантастическая горная цепь.
Среди его, якобы скучных, как арифметика, стрит и авеню, рождается ощущение непредсказуемости, случайности. В этом городе может все произойти. Он всегда готов к приключениям. Нью-Йорк не был символом чего-то, в нем нет никакой умышленной идеи. Более того, у него даже нет своего лица. Уникальность Нью-Йорка - только в его всеядности. Он все принимает и ничего не отрицает. Он не принадлежит к одной стране, к одной культуре, к одному языку. Нью-Йорк - совокупность всего, манифест богатства человеческой природы, включающей в себя и все низкое, злое в ней. Тут нашли себе убежище философы и бродяги, поэты и сумасшедшие, праведники и грешники. В этом городе добро и зло остаются на своих полюсах, рождая мощное творческое напряжение.
Эклектичность Нью-Йорка - архитектурная, стилевая, идейная - его великое богатство. Здесь нет общего знаменателя, нет общей нормы. Каждый ньюйоркец пользуется городом, как хочет. И эта атмосфера полной свободы дарит человеку возможность стать самим собой.
Говорят, если вам надоел Нью-Йорк, пора умирать. И в самом деле, путешествовать по Нью-Йорку можно всю жизнь, - чем я, собственно говоря, и собираюсь заниматься.
* Самой необычной нью-йоркской достопримечательностью я бы назвал очередь в кинотеатр, где идет фильм Вуди Аллена. Его зрители одеваются не ярко, под мышкой у них толстые книги, причем - на разных языках. В воздухе витают фамилии международных интеллектуалов, эзотерические названия, тонкие намеки, хитрые сравнения. Короче, аудитория больше всего напоминает московские кухни. И это не случайно. Вуди Аллен - типичный представитель интеллигенции, которую в Америке можно рассматривать в качестве экзотического экспорта.
* Ньюйоркцы, как вороны, едят все. Поэтому обед тут может быть каким угодно. Другое дело - завтрак. Традиционный нью-йоркский завтрак - чашка кофе, бублик с лососиной и свежий выпуск «Нью-Йорк таймс». Причем, главное в этом наборе - его несъедобная часть. Почему? Да потому, что ньюйоркцы с присущей им категоричностью, которую все остальные считают наглостью, считают свою главную газету - лучшей в мире. По-моему, так оно и есть.
* Метрополитен - первый, самый большой и лучший музей Америки - настолько же характерен для этой страны, насколько он отличается от своих прославленных собратьев. Метрополитен - чисто американский феномен, как бейсбол, родео или «Мак-Доналдс». Метрополитен - самый демократический музей в мире. Культура здесь живет в вечном музейном согласии - без иерархии, без границ во времени и пространстве. С точки зрения традиции, музей можно считать свалкой драгоценностей, но с моей - это лес чудес, по которому можно часами бродить без определенной цели, именно, как по лесу.
* Однажды, за день, проведенный в Метрополитен, я посмотрел выставку исторических костюмов, картины символистов, сюрреалистические фотографии и папуасские пироги. Потом забрел в китайский садик, где первыми в Нью-Йорке распустятся сливы, и решил, что не прочь, как мумии из египетского зала, остаться в Метрополитен навсегда.
Север обладает мистической притягательностью. Не зря столько лет людей очаровывает бесплодная географическая абстракция - полюс.
Чем выше широта, тем яснее становятся философские обертоны этнографии. Северяне открыли способ жить там, где, казалось, жизнь невозможна. Их культура строилась в экстремальной ситуации: смерть всегда рядом. Жизнь отнюдь не воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Элементарное, всем понятное право на существование следовало отвоевывать в ежедневной борьбе. Биология на Севере важнее всего. Культура и история не разделены той преградой, которую прогресс навязал цивилизации. Конфликты между людьми отступают перед более фундаментальным противоречием человека и природы.
Северяне жили всегда в условиях войны, в которой нельзя победить, но можно прийти к перемирию.
В чужой стране единственные знакомые - литературные персонажи. Впрочем, в родной - тоже. С годами все призрачнее становятся фигуры домоуправа, квартирной соседки, секретаря комсомольской организации. Но вот, скажем, Онегин не тускнеет. Даже наоборот, кажется, что из всех российских знакомых остались только они - Мцыри, Чичиков, Витя Малеев в школе и дома.
Дания - маленькая страна, и она не может себе позволить такого разнообразия. Перед остальным миром ее представляет один Андерсен. Но датчане могут спать спокойно: мир их не забудет, во всяком случае, до тех пор, пока на земле будут дети.
Естественно, что в Дании Андерсен - самодержец. Его бронзовая фигура встречает вас на ратушной площади, его Русалочка целыми днями сидит у моря, и главная улица Копенгагена названа, конечно, его именем.
Самим датчанам это настолько приелось, что однажды вандалы отпилили русалочке голову. Но ничего не изменилось. Памятник восстановили, а туристическое агентство обзавелось новым девизом: «Дания так прекрасна, что каждый может потерять тут голову».
В Копенгаген все пришло из сказки, прежде всего - королевские замки. Они такие, как дети строят из песка: башенки, шпили, завитушки.
Тысячу лет назад датская империя включала в себя Швецию, Норвегию и Англию. Потом пришел остроносый человек с Дюймовочкой и Гадким Утенком и одним махом заменил великое прошлое на уютное.
Поневоле задумаешься: какие солдаты важнее - обыкновенные или оловянные?
Мы привыкли считать сказку детским жанром. Датчане вынуждены принимать ее всерьез, поэтому там, где у других столиц - мавзолей или лобное место, в Копенгагене - Тиволи, парк культуры и отдыха. Обычные карусели, американские горки, комнаты смеха плюс тот старомодно-викторианский, напыщенно-театральный дух, который в рождественские дни переполняет Америку.
В Тиволи Рождество царит круглый год. Этот засахаренный городок аттракционов хочется повестить на елку.
Копенгаген - откровенно веселый город, что не совсем честно. Север обязан быть суровым. А где тут торжественная печаль, когда кругом открытые кафе, бродячие музыканты и толпы длинноногих голубоглазых блондинок, которых в этом мире просто нет.
От 56 градуса северной широты я ждал большей серьезности, поэтому и отправился в Эльсинор, чтобы навестить скорбный замок, где бродят тени двух Гамлетов, не считая коварного Полония, безумной Офелии и прямого, как палка, Лаэрта.
И что же? Все те же игрушечные башни и шпили, уютные залы с видом на море, светлый праздничный интерьер. Даже десяток пушек, охраняющих вход в балтийское море, густо заросли травой.
Совершенно очевидно, что Андерсен добрался до Эльсинора раньше меня. А вот Шекспира тут точно не было, хотя памятник ему и стоит в каком-то закутке.
Великий бард прогадал с обстановкой, не говоря уже о том, что Кронненбургский замок построен через сто лет после смерти самого знаменитого из датских принцев.
Короче, никакого Севера из легкомысленной Дании не получается. Если здесь и были когда-то серьезные варяги, то, похоже, все они перебрались на Восток, чтобы населить своей суровостью мои родные пределы.
Достаточно пересечь залив Зунд, чтобы ощутить, как отличается громадная Швеция от своей маленькой соседки Дании. На шведском берегу вас сразу встречают памятники королям и генералам. Чем ближе к Стокгольму, тем больше этих бронзовых истуканов. В столице же они неистовствуют до такой степени, что начинает рябить в глазах от римских цифр, обозначающих порядковые номера бесконечных Густавов, Олафов и Карлов.
Правда, ленивому туристу, чтобы снискать любовь шведов достаточно запомнить одного Карла XII, который чаще других стоит на постаментах. Обычно это - юноша-воин, указывающий перстом на Восток, откуда Швеции вечно грозит Россия с ее Петром и подводными лодками.
Национальная история - занятная штука. Каждая сторона трактует ее так, чтобы побед набиралось побольше, а поражений не было вовсе. Так, один швед рассказывал мне про Северную войну, во время которой победоносный Карл захватил столько русских пленных, что они построили огромный Гета-канал.
«Это еще что, ответил я хвастуну, - мы вашего шведа Даля заставили написать словарь русского языка. Четыре тома!»
Справедливость была восстановлена.
От соседей Швеция отличается несомненным великодержавием. Соответственно, и Стокгольм выглядит более имперским, чем окрестные столицы. Может, потому он так похож на Петербург: каналы, гранит, дворцы, театры плюс особая северная угрюмость и суховатость. Даже серость. Не в смысле скуки, а как благородная приглушенность красок, отсутствие средиземноморской пестроты. Ну и конечно, белые ночи - все эти «пишу, читаю без лампады».
На фоне былых ночей прекрасно смотрятся шведы. Они такие белесые, что сливаются с северным небом. В светлые сумерки шведская толпа похожа на негатив.
В Стокгольме Карл XII уверенно заслонял варягов, но всего в 70 километрах от столицы расположена Старая Упсала, откуда вышли все славные Рюриковичи.
Тут до сих пор стоят варяжские курганы, пышно прозванные «скандинавскими пирамидами». В сущности, это просто огромные холмы, насыпанные полторы тысячи лет назад, чтобы достойно отметить похороны вождей-конунгов. Когда-то здесь была главная языческая святыня Севера - роща, в которой приносили жертвы. Разрубленных на части собак, коров и людей подвешивали к ветвям священных деревьев. Считалось, что это приносило удачу.
Похоже, так оно и было: кучка норманнов - скандинавов и сегодня немного - основали империю, протянувшуюся от Сицилии до Америки.
За Упсалой цивилизация кончается. Вернее, она остается где-то за лесом, который и является собственно Швецией. 500 километров я проехал до норвежской границы, и если зеленая полоса, где и прерывалась, то только для того, чтобы пропустить к дороге узкое лесное озеро.
Шведы настолько влюблены в свою природу, что ради нее ограничили права на недвижимую собственность. То есть, кому-то вся эта земля, бесспорно, принадлежит, но собственник не может препятствовать другим наслаждаться своими владениями. Любой - даже иностранец - имеет право шляться по лесу, собирать грибы и ягоды, жечь костры, жить в палатке, ловить рыбу и вообще делать на чужой земле все то, что в Америке категорически запрещено.
Такой гуманизм не помешал шведским лесам остаться безлюдными. Стоит отойти на триста метров от машины, и ты остаешься в одиночестве. Причем, чувствуется, что при желании его можно продлить до Ледовитого океана.
С Норвегией что-то не так. Казалось бы, что у нас общего с этим маленьким отдаленным народом - всего-то ленточка общей границы?
Но существует между норвежцами и русскими таинственная внутренняя связь, симпатия. Даже интимная близость. России уютно иметь в соседях Норвегию. И из-за того, что соседство это возникло так далеко на безжизненном севере, оно редко омрачалось коммунальными склоками.
Север доставляет слишком много неприятностей, чтобы люди еще и сами портили друг другу кровь. Как-то политики заметили, что единственное место, где царит мир и дружба, - Антарктида.
В 19 веке норвежцы привыкли на себя смотреть, как на обитателей последнего из медвежьих углов Европы. И в этом они тоже близки к русским. Совместная отсталость порождала особый вид тщеславия: бедны. Но богаты. Духом, естественно. В конце прошлого столетия Энгельс писал: «Норвегия пережила такой подъем в области литературы, каким не может похвалиться ни одна страна, кроме России».
Когда-то и мы, и они любезно пользовались этим подъемом: норвежцы обожали Достоевского, русский театр вырос на Ибсене.
О взаимной тяге двух северных народов хорошо писал Пришвин: «У русских есть какая-то внутренняя интимная связь с этой страной. Быть может, это от литературы, так близкой нам, почти родной. Но может и оттого, что европейскую культуру так не обидно принять из рук стихийного борца за нее, норвежца. Что-то есть такое, почему Норвегия нам дорога и почему можно найти для нее уголок в сердце, помимо рассудка».
Обычно государственная граница - простая условность. Но въезжая из Швеции в Норвегию, нельзя не заметить разницы. Дорога сужается, вместо ухоженного бора - дремучие дебри, резко и сразу начинаются горы. Как будто с первого этажа поднимаешься на пятый. И еще легкая, но заметная неустроенность, привкус стихийного беспорядка.
Но столица у норвежцев захудалая - все перекрыто, в окнах занавески драные, кое-где - рабочие окраины. Если Стокгольм напоминает о Петербурге, то Осло об Архангельске, Кеми, Беломорске или любом другом русском городе, который Север делает экзотичным - солнце почти не садится, дети всю ночь играют на улице и отовсюду видно молочное море.
Норвежцы сделали для культуры больше, чем все остальные скандинавы вместе взятые. В Норвегии родились Ибсен, Гамсун, Григ, и еще - единственный по-настоящему известный северный художник Эдвард Мунк.
Картины Мунка разоблачают вымысел о рыбьей крови скандинавов. И дело не только в полотнах с экспрессионистскими названиями «Крик», «Тревога», «Ревность»,
Особым ужасом выделяются картины с внешне спокойными сюжетами - пристойно одетые горожане на фоне патриархального городка в фьордах. Чувствуется, что спокойствие это - жуткая липа. Что стоит отвернуться, как эти тучные люди в визитках обнажат вурдалачьи зубы.
В картинах Мунка есть что-то от классического американского триллера, где, чем больше умиротворенности в начале, тем больше потустороннего ужаса в конце фильма. Стоит приглядеться к его непристойной «Мадонне», чтобы понять: зрителю улыбается труп.
Внутренний мрак картин Мунка отравил их автора. В 44 года художник попал в сумасшедший дом, где целый год его лечили от алкоголизма и безумия. После этого Мунк прожил еще 36 трезвых и безгрешных лет. Но вместе с пороками исчез и его гений.
Наверное, те же страсти, которыми кипит проза Гамсуна, музыка Грина и краски Мунка, толкали норвежцев в море. В Осло есть музей, где собраны материальные свидетельства особой норвежской одержимости. Это - музей кораблей.
Открывают его суда викингов. Даже если весь ваш мореходный опыт - два часа гребли в городском пруду, вы не можете не поразиться идеальной геометрии варяжской ладьи. В ней нет никаких технических хитростей - только абсолютно чувство формы, счастливо угаданная хищная плавность линий. Такое судно не противостоит морю, а вписывается в него, растворяется в волне, как дельфин.
Для жертв норманнских набегов эти ладьи были смертоносны, как танк в армии Цезаря.
Главное богатство Норвегии - фьорды, из-за которых сюда всегда ездили туристы. Норвежские горы вырастают прямо из воды. Внизу у подножья - курорт, купание, пляжи, а наверху - ледяные макушки. Там может идти дождь. Даже снег. И все это надо воспринимать сразу, как на наивном рисунке, где автор изображает четыре времени года на одном листе.
В принципе фьорд - это всего лишь ущелье, заполненное водой. Но вода эта такого чернильного цвета, что в нее можно макать перо и писать оды. И горы отливают почти черным, но все же зеленым. И снежные вершины. И нигде ни одной прямой линии. Сплошные извивы, завихрения. В пейзаже разлита такая бешеная турбулентность, что даже стоя на месте, не перестаешь мчаться по изгибам фьорда.
Норвежцы всегда уважали магические силы своей ирреальной страны. Поэтому они и населили ее троллями.
Тролль - с длинным, как у меня носом - самое гадкое существо в Европе. Но норвежцы их любят: приятно обладать даже отрицательными рекордами.
Живут тролли в недрах гор и прячутся от дневного света. У них бывает по две-три головы, зато глаз чаще всего один. Они прекрасно, как все в Норвегии, катаются на лыжах, обладают несметными сокровищами и скверным характером. Раньше тролли ели людей, теперь пакостят по мелочам - продырявят покрышку, кляксу шлепнут, ключи сопрут.
Впрочем, в Норвегии к ним привыкли, и никто не обижается. В любой лавке стоит деревянный уродец, который помогает хозяину справиться с соперничающей нечистой силой, например - налоговым инспектором.
Покидая Север, я тоже увез с собой парочку троллей - лучше иметь дело со знакомой нечистью: знаешь, чего ждать.
Эти «Письма» не заменят путеводителя. И все же три моих совета - что особенного посмотреть, чем интереснее всего пообедать и где важнее всего побывать - завершат этот, как и все остальные очерки нашего путевого цикла.
* Наиболее впечатляющее зрелище на Севере - норвежские деревянные церкви, самые старые в мире. Их архитектура наполовину еще языческая. Внутри - Христос. А снаружи - острые коньки крыш, которые отгоняют нечисть от Божьего дома. Построены церкви с тем же искусством, что и варяжские ладьи. Поэтому жуткие бури, столь частые в Норвегии, не приносят никакого вреда 800-летним зданиям.
* Самая интересная кухня Севера - норвежская. Если не скупиться, то в лучшем ресторане Осло, патриотически названном «Ибсен», можно отведать жаркое из тресковых языков, вяленую оленью печень и стейк их китового мяса.
* Самое экзотическое времяпровождение в Скандинавии - Иванова ночь. До сих пор этот языческий праздник на всем Севере встречают пышно. На пляже разводят костры, поют песни и сжигают специально сделанную для этого ведьму. Веселиться принято всю ночь - к несчастью, самую короткую в году.
Письма русского путешественника из другой Америки
Автор программы Александр Генис
Предыдущая часть
В Бразилии живут 150 миллионов человек. И все играют в футбол - по утрам, в сиесту, вечерами; до работы, после работы, вместо работы. Говорят, что строя новый поселок в тропическом лесу, сельве, сначала расчищают место под футбольное поле, а потом уже строят дороги, школы, церкви, магазины и тюрьмы. Любой бразилец знает, что такое «сухой лист», «чистильщик» и система тотальной атаки. Половина страны уверена, что их президент - Пеле.
Мои первые приключения в Южном полушарии тоже связаны с футболом. На площади перед аэродромом играли футболисты лет пяти. Мяч откатился в мою сторону. И тут я, не взирая на чемодан и годы, ударил по воротам. От штанги - кокосовой пальмы - мяч взлетел в ворота: неберущаяся «девятка». Мальчишки замерли в недоумении. Чего-чего, а играющего в футбол «нортеамерикано» они еще не видели.
Для того, чтобы добиться первого в жизни спортивного триумфа, мне пришлось пересечь экватор и приехать в другую Америку.
Рио-де-Жанейро - город, несомненно, безумный. Среди 18 официальных пляжей есть общественные, клубные, женские и солдатские, при казармах. Все, что не является пляжем, не является и городом.
То - горы, поросшие непроходимыми джунглями. Дома пяти миллионов обитателей Рио вытянулись вдоль чуть ли не единственной улицы, причем одна сторона этого проспекта - все равно морское побережье, а другая - все равно горы.
Пляж доминирует и в физической и в духовной жизни местных жителей - тут спят, едят, работают. Клерки выходят не покурить, а искупаться. Человек в плавках и солнечных очках считается одетым, майка и сандалии - уже костюм. Бразильцы изменяют себе только зимой, то есть в июле-августе. В эти месяцы температура падает до 25 по Цельсию и дамы щеголяют в сапогах и перчатках.
Впрочем, меня в Бразилию привел не пляж, а религия. Бразилия - самая большая в мире католическая страна. Об этом написано во всех справочниках, об этом свидетельствуют роскошные церкви, об этом говорит и сам Папа Римский. И все же это не так. Бразилия - страна не только католическая, но и языческая.
Когда-то португальцы вывезли в свои южно-американские колонии огромное количество рабов из Африки. Вместе с ними в Бразилию попала и африканская религия.
Белые крестили черных. Заставили их поклоняться христианскому Богу и католическим святым. Но африканцы втайне подменили чужих богов своими. Покровитель охотников Ошосси превратился в святого Себастьяна, богиня реки Нигер Ианса - в Жанну д'Арк, патрон воинов Огум - в святого Георгия, Бог неба Ошала стал Иисусом Христом.
Так продолжалось столетиями. И черные, и белые исповедывали одну религию по названию, но две - по сущности. Лишь в 1888, когда в Бразилии, наконец, отменили рабство, потомки африканцев открыто вернулись к родной вере. Здесь ее обычно называют Макумба.
Сперва правительство пыталось с ней бороться. Потом все махнули рукой. Ватикан удовлетворился тем, что бразильцы формально признают и исполняют все католические обряды.
Африканская Макумба не только сохранилась в Новом Свете, но процветает здесь, становясь с каждым годом все более влиятельной. Сейчас в Бразилии выходят сотни посвященных ей журналов. Есть и специальные радиостанции, и особые телевизионные каналы. Но главное, большинство бразильцев - независимо от цвета кожи! - в той или иной степени привержены Макумбе. Конечно, не все исполняют ее обряды, не все посещают молитвенные дома-терьеро, но почти все считаются с Макумбой - если не верят, то, во всяком случае, бояться.
Глядя на роскошный деловой район Рио-де-Жанейро, застроенный сверхсовременными небоскребами, трудно поверить в могущество африканского культа. Но оно неоспоримо. К услугам жриц этой религии, которые носят официальный титул «матери богов» - прибегают фермеры, служащие, юристы, врачи, бизнесмены и школьники. Почти все дети в стране сразу после крещения в церкви проходят и обряд очищения в терьеро. Матери богов даже обладают правом регистрировать браки.
Внешний мир мало знает о Макумбе. Во-первых, в Бразилии не принято говорить об этой стороне жизни. Белые, хорошо образованные люди не торопятся рассказывать иностранцам о том, что они следуют предписаниям древней религии, которую многие считают вымершим суеверием.
Во-вторых, португальский язык бразильцев, на котором никто больше не говорит в Западном полушарии, является естественным препятствием для распространения сведений о Макумбе.
Ну, а в-третьих, не так просто поверить, что одна из самых больших и самых динамичных стран мира исповедует язычество.
Однако это правда. И, чтобы в этом убедиться, достаточно провести в Рио-де-Жанейро, как посчастливилось мне, новогоднюю ночь.
В Бразилии, как и в России, Новый Год - любимый праздник, но здесь его отмечают совсем иначе. В ночь на первое января празднуют день рождения Иеманьи - главной богини всего пантеона Макумбы. Иеманья - богиня воды. Когда рабов привозили в Бразилию, большая часть погибла в пути. Те, кто добрались живыми, воздали благодарность морской богине за это чудо. С тех пор новогоднюю ночь принято проводить на побережье, принося жертвенные дары богине-спасительнице. В праздник на лучших пляжах Рио - Копакабане, Ипанеме, Леблоне - собираются полтора миллиона человек, чтобы выполнить языческий ритуал очищения и получить благословение африканской богини на следующий год.
С приближением полуночи, на пляже начинаются приготовления. На песке чертятся магические диаграммы. В молитвенном доме-терьеро такие рисунки наносят на пол особым мелом, привезенным из Африки. Он стоит очень дорого, зато и работает наверняка. В центре диаграммы устанавливают свечу. Их продают на каждом углу. Рио - наверное единственный город в мире, где постоянно растет производство свечей. Стоит свечка один крузейро, то есть одну треть цента. Но сдачу продавец отсчитывает щепетильно: обманывать можно всех, кроме богини - это она не любит.
Каждому богу соответствует свой рисунок. Так, атрибуты речной богини Йанса - стрелы. Прародительницу богов Помбагиру сопровождает крест и звезды. Эта диаграмма украшает «решку» бразильской монеты в сто крузейро. Бога-воина Огуму символизируют две скрещенные шпаги. Это - память о португальских конквистадорах. В обрядах макумбы шпаги - часто проржавевшие реликвии - играют важную роль: ими закалывают двуногую жертву - курицу или голубя.
Когда диаграммы готовы, в небольших ямках у самого моря готовят жертвы богине Иеманье - дары, приятные каждой женщине: духи и косметику. Весь берег усыпан желтыми розами. Впрочем, цветы в море в Рио принято бросать не только по праздникам, а круглый год.
К одиннадцати часам улицы полностью пустеют. Все живое в городе перемещается к пляжу, где происходит самое важное таинство праздника - общение с богами.
Мне повезло занять место в первом ряду - прямо у веревки, которая ограждает большие круглые площадки. Внутри - главные действующие лица - танцоры и жрицы.
В центре круга стоит сама мать богов - черная, сморщенная от старости женщина в белом тюрбане. В губах у нее дымиться толстая черная сигара. Она, не выпуская сигару изо рта, поочередно дотрагивается лбом до плечей участников ритуала, шепчет заклинания обмахивает все тело и протягивает руку для поцелуя.
В очереди много белых. Есть и несколько иностранцев - их выдает фотоаппарат. Происходит все очень серьезно.
Затем в круг входят люди с барабанами двух видов - длинными узкими и маленькими и широкими. По знаку матери богов барабанщики приступают к делу.
Ритм самый простой и очень монотонный. Через веревку перешагивают люди и становятся в круг. Большинство танцоров - с черной кожей, но есть и белый, хорошо одетые, с дорогими украшениями. Пляска сопровождается тягучим пением. Похоже, что повторяется всего несколько слов. Да и танцевальные па несложны.
Минут через десять верховная жрица подает знак барабанщикам и ритм меняется. Теперь хоровод пошел быстрее.
И вдруг в центр круга выскочила молодая белая женщина. Она страшно вскрикнула и начала метаться, наступая на свечи голыми ступнями. Все танцуют босыми, ибо так лучше ощущается связь с матерью-землей: она должна дать силы и магические токи, которые позволят избранным вступить в разговор с богами.
Глаза впавшей в транс женщины широко открыты, но совершенно пусты, как у спящей.
За ней из круга выбежало еще несколько людей. Некоторые, упав на песок, дергались в конвульсиях. У первой девушки на губах появилась обильная пена.
Хоровод продолжал двигаться, не обращая внимание на происходящее. Скоро на песке извивалось уже человек десять. Они тяжело, как в гипнозе дышали, выкрикивали нечто неразборчивое, у всех изо рта шла пена.
Я сидел совсем близко к веревке, так что мог всмотреться в лица беснующихся, вглядеться в их невидящие глаза. Зрелище было настолько диким, что я поминутно оглядывался на полосу прибрежных отелей. Мне все казалось, что оттуда вот-вот прибегут врачи и полицейские.
«У богов нет тела, и мы одалживаем им свое. Боги вселяются в людей, которые впадают в транс. Стать медиумом не просто. Йоа - мы так их называем - должна пройти очищение. Она (чаще это женщины) полгода живет в терьеро, ест только ночью и всегда молчит. Когда йоа в первый раз впадает в транс, мы подносим к ее руке свечку. Если ожога нет, то она прошла экзамен.
С медиумом не может случиться ничего плохого. Хотя, изменив ритм, я могу заставить их разбить голову об землю.
Во время пляски я управляю барабанами. Главное - их ритм. Наши барабаны - святые. У каждого свое имя. Их никогда не одалживают. В ночь перед праздником мы смазываем их птичьей кровью».
Из книги «Ученье Марии-Хосе, матери богов».
Через полчаса после начала пляски мать богов вынула из складок одежды колокольчик и принялась трясти им возле упавших танцоров. Они почти немедленно переставали биться, но лежали без сознания, хотя и с открытыми глазами.
Чуть позже некоторые встали и побрели в сторону. Один старик прошел так близко от меня, что я дотронулся до его руки. Он не остановился, сделал еще несколько шагов и устало повалился на песок.
Барабаны смолкли, но далеко не все вышли из транса. То один, то другой из уже успокоившихся танцоров вдруг опять вскрикивал и начинал биться. К ним подбегала жрица и звонила в колокольчик, пока те не приходили в себя.
Я встал и огляделся. Шесть миль пляжа мерцали свечами. Повсюду в освященных кругах двигались белые фигуры и гремели барабаны. То там, то здесь пронзительно звенел колокольчик.
За несколько минут до Нового года все смолкло. В ритуальной тишине на берегу выстроились полтора миллиона человек. Ровно в 12 ночь огласилась общим криком. Весь пляж хором считал волны.
Первая...вторая...третья... Эта была огромной. В безветренной ночи она обрушилась на песок. Как во время шторма.
Вода разом слизнула все жертвы богини Иманье и загасила свечи. Прямо в одежде люди бросились в море. В жуткой давке каждый торопился окунуться именно в эту, новогоднюю - волну.
Я взглянул на небо и обмер. Медленно и беззвучно на пляж опускалась летающая тарелка.
Это было уже слишком. Но тут же выяснилось, что богиня не при чем. Городские власти отмечают Новый год, выпуская над Рио воздушный шар, заполненный светящимся газом.
Макумба кончилась. Около отеля «Шератон» зажглась пятиэтажная проволочная елка - для хвойных не те широты. На набережной появился потный Санта-Клаус в компании темнокожего Деда Мороза - Черного Питера.
Откуда-то появились футболисты. И на исчерченных магическими диаграммами песке почти в полной темноте пошла азартная игра.
Прямо на улицах Рио спали измученные танцоры. На прибрежном проспекте появился автобус. Постепенно город возвращался в 20 век.
Но это еще не конец. Оказалось, что последняя встреча с Макумбой ждала меня дома. После жаркого Рио-де-Жанейро снег в морозном Нью-Йорке казался оперной декорацией. Я специально пошел на Гудзон, чтобы посмотреть на лед. На берегу в чахлых кустах стояла глиняная плошка с маисом, флакончик одеколона и свечной огарок. На камне рядом был нарисован крест с пятью звездами - знак прекрасной богини моря Иеманьи.
Эти «Письма» не заменят путеводителя. И все же три моих совета - что особенного посмотреть, где важнее всего побывать и чем интереснее всего пообедать - завершат этот - как и все остальные очерки нашего путевого цикла.
* Самое экзотическое зрелище, которое мне доводилось видеть в Южной Америке - бразильская самба. Это - вид танцевальной эпидемии. Появляется человек с барабаном, за ним - другой, пятый, двадцатый. Если нет барабана, в ход идут кастрюли, ладони, собственный живот. Когда музыка достигает не ясной для постороннего, но очевидной для участников кульминации, неожиданно взрывается танец. В круг выскакивают танцоры. Сохраняя торс неподвижным, они в отчаянном нечеловеческом темпе выделывают ногами нечто немыслимое, а потому и неописуемое.
* Наиболее увлекательная достопримечательность другой Америки - базары. Что и понятно: чем беднее страна, тем богаче ее рынки - отсталая экономика не терпит посредников. Самые необычные базары Латинской Америки - в Перу, где тюками продают листья коки. Без нее в этих высокогорных краях жизнь невозможна. Накупив дешевого и легального наркотика, я жевал эти листья без устали, как корова. Однако результаты себя не оправдали - «Перцовка» лучше.
* В харчевнях того же Перу подают и самые странные блюда - вяленые потроха ламы, жареных морских свинок, варенье из помидоров. Но главное - картошку. Тут можно попробовать картофель всех видов и размеров - есть с голову ребенка. А есть - с козий горох. В Андах, на родине этого бесценного корнеплода, выращивают 200 сортов. Но к столу подают не больше 50. Однако при всем разнообразии, тут никто, похоже, не знает что будет, если эту самую картошку подать обжигающе горячей с маслом и укропом. Не знают и вряд ли узнают, потому что я увез эту тайну обратно в Нью-Йорк.
|
|