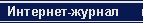
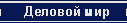
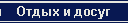
 |
 |
|
|
Майя БАСС (Балтимор). Парижский скульптор из Креславки
Как говорится, вечером он лег спать никому не известным, а утром проснулся знаменитым. Наум Аронсон родился в 1872 году в маленьком еврейском местечке Креславка в той части Латвии, которая называлась Латгалией. Теперь бывшее местечко стало городом Креслава. Родители Наума были верующими хасидами, как и большинство живших там евреев. Держали продуктовую лавчонку. Семья была небогатой и не могла дать детям приличное образование. Наум, например, дальше хедера не пошел. Но уже в раннем детстве мальчик почувствовал тягу к рисованию и лепке. Родители не одобряли его пристрастия, но Наум убегал в заброшенный сарай и там лепил в свое удовольствие. Однажды его дядя увидел эти «сарайные» скульптуры, пришел в восторг и смог уговорить родителей отправить мальчика в рисовальную школу в Вильне. Правда, у доброго дяди не было достаточно денег, чтобы долго содержать племянника, а родители присылали ему жалкие гроши, но он учился и очень старался. В конце школьного курса Наум вылепил бюст попечителя Виленского учебного округа Сергиевского, и попечителю бюст так понравился, что он стал хлопотать об определении молодого ваятеля в Петербургскую академию художеств. Однако в академию Аронсона не приняли, так как, во-первых, у него не хватало образования (хедер был не в счет), а во-вторых, он, как еврей, не имел права жить вне черты оседлости. Итак, в России пути вперед для Наума не было, и он решает ехать в столицу искусств - в Париж. Ему исполнилось 19 лет, он выпросил еще немного денег на поездку у родителей и поехал. Согласитесь, это был отчаянный шаг - без образования, без знания языка и без средств к существованию! Но у Наума Аронсона было огромное, всепоглощающее желание учиться искусству. И ему повезло. В Париже его приняли в бесплатную муниципальную Школу декоративного искусства. Одновременно со школой он посещал частное ателье Каларосси. На жизнь зарабатывал тяжким трудом, обтесывая каменные глыбы у мраморщика Гектора Лемера. Прошло два года. Аронсон закончил школу. За свою дипломную работу он получил первый приз. Ну, а что дальше? Нужных знакомых у него не было. Работы тоже не было. Все первые годы самостоятельной жизни в Париже его постоянно преследовала утомительная нужда. Он перебивался случайными заработками, но и они не всегда бывали. Порой ему на что было купить себе даже хлеб. И вот в один из таких дней случился этот обморок накануне нового года, когда голод стал особенно нестерпимым. Собралась толпа, полицейские и вездесущие репортеры. Едва придя в сознание, он попросил есть... А уж репортеры, выяснив все о молодом скульпторе, дали сообщения об этом происшествии. Все пошло, как в сказке. За первым двухтысячным контрактом последовали другие. У него появилась собственная мастерская. Вскоре одна из работ Аронсона была выставлена в престижном салоне художественного общества Шамп де Марс. Скульптура представляла собой головку девушки, которой Смерть дает последний поцелуй. Через год Наум Аронсон был принят в члены этого художественного общества. Критики считали его работы глубоко психологичными и превосходными по исполнению. Его композиции «Гнездо», «Жажда» и другие широко выставляются. В 1900 году он начинает работу над бюстом Бетховена. В том же году на международной выставке в Париже Аронсон получает вторую золотую медаль. Слава его растет. В мастерской художника появляются скульптурные портреты Моцарта, Вагнера, Берлиоза, Шопена, Данте Алигьери, Бетховена и другие. В Берлине выставляются его новые работы - «Маленький мученик», «Слепая»... В 1901 году Аронсон едет в Россию к Льву Толстому в Ясную Поляну, он хочет лепить его портрет. Толстой долго говорит с молодым мастером, он уже знаком с его работами и соглашается позировать. В своем дневнике Софья Андреевна Толстая писала, что у них «живет сейчас скульптор Аронсон, бедный еврей, выбившийся в Париже за восемь лет в хорошего, талантливого скульптора. Лепит бюст Льва Николаевича и мой, и все очень недурно. Меня он изобразил не такой безобразной, как это делали до сих пор все художники». Российская тема занимала значительное место в творчестве скульптора. В дальнейшем им были выполнены скульптурные портреты Тургенева, Фета, Л.Андреева, артисток Савиной, Комиссаржевской, балерины Иды Рубинштейн и многие другие. До 1917 года Аронсон нередко бывал в России, и о его творчестве появлялись статьи в газетах и журналах. Известный русский художественный критик, редактор журнала «Аполлон» С.К.Маковский дает восторженную оценку творчества Аронсона: «Среди современных русских скульпторов я не знаю более серьезного, более даровитого мастера... Аронсон знает все тайны мастерства. Обращается так же виртуозно и с мрамором, и с бронзой, и с гипсом, и с деревом. Он работает с одинаковым успехом в самых различных стилях, оставаясь самостоятельным, никому не подражающим художником». Работам скульптора посвящаются также статьи многих искусствоведов Европы. А в 1902 году сорок его скульптур выставляются в столице России Петербурге, том самом, куда ему, как еврею, прежде въезд был категорически запрещен. Еще через три года в Бонне было торжественное открытие памятника Бетховену, над которым Аронсон работал пять лет. В 1922 году по заказу французского правительства к столетнему юбилею Пастера Аронсон выполнил его большой бюст для зала заседаний в Институте Пастера. Кроме того, бюсты Пастера работы Аронсона были установлены в Брюсселе, Токио, Ханое. Много работ Наума Аронсона посвящено истории еврейского народа. Можно упомянуть такие прекрасные скульптуры, как «Моисей», «Саломея», «Пророк», «Вечный жид», «Бар-Мицва». «Те, кто лично знал Аронсона, - вспоминает Р.Вишницер-Бернштейн, - помнят его необыкновенную отзывчивость. Художники - индивидуалисты, они равнодушны к судьбам окружающих их людей. Аронсон был в этом отношении исключением. Ходатайствовать за кого-нибудь, ходить по учреждениям, просиживать часами на заседаниях общественных (благотворительных) организаций не было для него тягостно. Когда у него бывали деньги, - он не жалел их. Он пожертвовал значительные суммы для детских колоний в Двинске и Креславке, откуда был родом. Аронсон не забывал своей родины. Как-то в Париже он познакомился с русским эмигрантом Луначарским. Через некоторое время Луначарский привел к нему господина невысокого роста с бородкой и большой лысиной, отрекомендовав его своим другом Владимиром Ульяновым. В своих воспоминаниях Луначарский рассказывал об этом посещении: Не мог представить себе парижский мастер, что человеку, который позировал ему для портрета Сократа, предстоит сыграть столь зловещую роль в истории России. Позднее работа над скульптурным портретом В.И.Ленина стала этапом в творческой биографии Аронсона. Сам скульптор об этом вспоминал: «В начале 1925 года, освободившись немного от заказов, по собственной инициативе, я принялся за лепку бюста Владимира Ильича и работал над моим Лениным два года. За это время я сломал до двадцати бюстов и лишь в последнем бюсте, который был привезен в СССР в 1927 году, я сумел, по моему мнению, выявить Ленина». Этот вариант был высоко оценен Луначарским, сказавшим, что эта работа Аронсона является «самым высоким художественным отражением вождя революции». Аронсон с радостью принял революцию в России. Он так верил в Октябрьскую революцию и так же заблуждался, как многие люди и в России, и за рубежом... После революции Аронсон дважды был на родине, и об этом написал: «Я нашел в СССР то, что искал, - идею работы, творчества... Это сознание дает мне вдохновение, делает меня юным и сильным». Он хотел сделать скульптуры для московского метро. Но в конце 30-х годов обстановка в СССР резко меняется, и работы скульптора-эмигранта еврея Аронсона, несмотря на сделанные ему раньше лестные предложения, стали абсолютно нежелательными. Его протянутая рука оказалась отвергнутой советским правительством. Кстати, бюст Ленина работы Аронсона советское правительство так и не нашло для себя возможным купить. Уже после смерти мастера его племянница подарила этот бюст музею Ленина в Москве, где он стоял между этажами только с фамилией автора. Без всяких указаний, кто этот автор. Между тем известность Аронсона как крупнейшего мастера скульптуры росла. Он находился в зените славы. Он был членом жюри по скульпторе Французского национального общества изящных искусств. По представлению французского правительства стал кавалером ордена Почетного легиона. Но вот начинается Вторая мировая война. В Париже немцы. Жизнь Аронсона в опасности. Он уезжает в Соединенные Штаты. А с его скульптурами и с картинами других художников происходит удивительная история. Участниками группы Сопротивления эти работы были тщательно упакованы и погружены в железнодорожные вагоны. Вместе с другими произведениями искусства специальный поезд пошел из Парижа по круговому маршруту. Предупрежденные о секретном поезде французские железнодорожники пропускали его без остановки, пока не загнали в какой-то глухой тупик, где состав простоял до конца войны. А сам мастер прожил в США до 1943 года. Чужбина была ему не в радость. Он знал о судьбе евреев в Европе и остро переживал все события войны. К сожалению, скульптор не дожил до победы. Он умер 30 декабря 1943 года. Имя Наума Аронсона сегодня почти неизвестно на его родине, в России. О нем нет ни одной печатной работы, его скульптуры не выставляются и не репродуцируются в альбомах и книгах. Лишь небольшой очерк о выдающемся скульпторе промелькнул в «Неделе», приложении к «Известиям», и в газете «Советише Геймланд», которая одно время издавалась на идиш, а впоследствии была и вовсе закрыта. Но многие музеи мира почитают за честь иметь в своей экспозиции работы Наума Львовича Аронсона, которые представляют для искусства непреходящую ценность. Майя БАСС(Балтимор)
|
|
| © Copyright IJC 2000-2002 | Условия перепечатки |
|
|